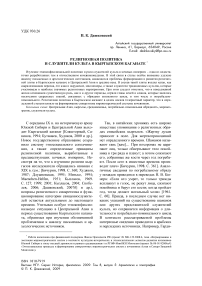Религиозная политика и служители культа в Кыргызском каганате
Автор: Дашковский Петр Константинович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Археология Евразии
Статья в выпуске: 5 т.8, 2009 года.
Бесплатный доступ
Изучение этноконфессиональной политики и роли служителей культа в кочевых империях - одна из недостаточно разработанных тем в отечественном кочевниковедении. В этой связи в статье особое внимание уделено анализу письменных и археологических источников, касающихся проблемы формирования и развития религиозной элиты в Кыргызском каганате в Центральной Азии в средние века. В состав такой элиты входил каган, как сакрализованная персона, его клан и окружение, миссионеры, а также служители традиционных культов, которые участвовали в наиболее значимых религиозных мероприятиях. При этом следует отметить, что в повседневной жизни кочевников существенную роль, как и в другие периоды, играли главы семей и кланов, которые являлись носителями сакральных знаний, связанных с обрядами жизненного цикла, в том числе и погребально-поминального. Религиозная политика в Кыргызском каганате в целом носила толерантный характер, что в определенной степени влияло на формирование синкретизма мировоззренческой системы кочевников.
Центральная азия, кыргызы, средневековье, погребально-поминальная обрядность, мировоззрение, служители культа
Короткий адрес: https://sciup.org/14737138
IDR: 14737138 | УДК: 930.26
Текст научной статьи Религиозная политика и служители культа в Кыргызском каганате
С середины IX в. на историческую арену Южной Сибири и Центральной Азии выходит Кыргызский каганат [Кляшторный, Савинов, 1994; Бутанаев, Худяков, 2000 и др.]. Новое государственное образование сохранило систему этносоциального соподчинения, а также определенные принципы религиозной политики, выработанные в предшествующих кочевых империях. Несмотря на то, что к изучению религии кыр-гызов исследователи обращались начиная с XIX в. (см.: [Бичурин, 1998. С. 360; Худяков, 1987; Длужневская, 1995; Митько, 1994; Maеnchen-Helfen, 1951; Кызласов, 1969. С. 127; 1999; 2001; Кызласов, 2004; Скобелев, 2006; Дашковский, 2007б] и др.), вопросы религиозного синкретизма и функционирование категории священнослужителей остаются актуальными до настоящего времени. Учитывая особую этноконфессио-нальную ситуацию в Центральной Азии в период существования Кыргызского каганата, обратимся при изучении обозначенной проблематики к анализу письменных и археологических источников.
Так, в китайских хрониках есть широко известные упоминания о религиозных обрядах енисейских кыргызов. «Жертву духам приносят в поле. Для жертвоприношений нет определенного времени. Шаманов называют гань [кам]… При похоронах не царапают лиц, только обвертывают тело покойника в три ряда и плачут; а потом сожигают его, собранные же кости через год погребают. После сего в известные времена производят плач» [Бичурин, 1998. С. 361]. Аналогичные сведения по погребальному обряду у номадов приводятся в переводах Н. В. Кю-нера: «Если кто умрет, то только трижды всплакнут в голос, не режут лица, сжигают покойника и берут его кости; когда пройдет год, тогда делают могильный холм» [1961. С. 60]. Правда, в последнем случае нет никаких указаний на существование шаманов или других представителей служителей культа, но сохраняется информация о длительности погребально-поминального цикла. В контексте рассматриваемой проблемы интересные сведения приводятся в арабских и персидских источниках. Например, Гарди- зи в XI в. писал о кыргызах следующее: «Некоторые из киргизов поклоняются корове, другие – ветру, третьи – ежу, четвертые – сороке, пятые – соколу, шестые – красным деревьям… У них особая мерная речь, которой они пользуются в молитвах. Молясь, обращаются в сторону юга… Они почитают Сатурна и Венеру, а Марса считают дурным предзнаменованием… Есть у них дом для молений… Светильни (зажженной) они не гасят, пока не погаснет сама собою» (цит. по: [Караев, 1968. С. 95–96]). Аналогичные сведения приводятся в «Словаре стран» Йакута, написанном в начале XIII в.: «У них (кыргызов. – П. Д.) имеется храм для поклонения, есть тростниковые перья, которыми пишут… Светильники они свои не гасят до тех пор, пока [горючее] вещество в них не потухнет само. Они знают стихотворную речь, что произносят во время своей молитвы… В году у них несколько праздников. Молятся они, обращаясь на юг, почитают Сатурн и Венеру и считают дурным предзнаменованием Марса… Они имеют камни, которые светятся ночью, благодаря которым им не нужны светильники и которые употребляются только в их стране…» [Материалы по истории…, 1988. С. 82]. Значительное сходство фрагментов, возможно, свидетельствует об использовании Йакутом более раннего текста Гардизи. В любом случае, приведенная информация позволила О. Караеву отметить, что в этом фрагменте содержатся сведения о различных религиозных системах – шаманизме и манихействе [Караев, 1968. С. 96]. Однако другой исследователь, В. Я. Бутанаев [2003. С. 10–11], опираясь на данные из последнего фрагмента в пересказе арабского писателя Закарийа ал-Казвини, пришел к выводу о возможности отождествления религии кыр-гызов с зороастризмом. В подтверждение своей точки зрения исследователь также пытается провести параллели в мифологических представлениях в зороастризме иранцев и бурханизме народов Саяно-Алтая, прежде всего хакасов.
Следует особо отметить, что О. Караев ссылается на сведения Гардизи и ал-Мар-вази относительно существования у кыргызов так называемых фагинунов, т. е. служителей культа. Фагинуны во время обрядовых действий, которые сопровождались музыкой, доводили себя до потери сознания, а затем, придя в чувство, предсказывали различные события, природные катаклизмы, нашествие врагов и др. [Караев, 1968. С. 96]. Данные сведения совпадают с элементами шаманского экстаза, во время которого кам общался с духами, а затем исполнял их волю. Необходимо учитывать, что такое своеобразное описание священнослужителей представлено авторским взглядом персидских и арабских путешественников, которым далеко не всегда были понятны «варварские» обычаи и обряды. Показательной в этом плане является оценка погребального обряда кыргызов, представленная Гардизи в своеобразном историко-сравнительном аспекте. Так, персидский ученый отметил: «Киргизы… подобно индусам, сжигают умерших и говорят: “Огонь – самая чистая вещь; все, что попадает в огонь, очищает от грязи и грехов”» (цит. по: [Караев, 1968. С. 98]). Подобные сведения сообщает арабский автор XII в. ал-Марвази: «У киргизов в обычае сжигать своих умерших. Они утверждают, что огонь делает их чистыми и очищает их…» (цит. по: [Митько, 1994. C. 221]).
Погребально-поминальный цикл кыргы-зов хорошо изучен археологически в разных районах Южной Сибири и Центральной Азии (см.: [Кызласов, 1983; Митько, 1994; Грач, Савинов, Длужневская, 1998; Савинов, 1994; Дашковский, 2007б] и др.). Кроме того, он имеет многочисленные этнографические параллели, неоднократно отмеченные исследователями (см.: [Абрамзон, 1971; Длужнев-ская, 1995] и др.). В то же время приведенные выше отрывки из различных по происхождению, времени и авторству источников позволяют сделать ряд выводов относительно погребально-поминального цикла. Во-первых, погребально-поминальная обрядность занимала длительный (в течение одного года) период. Во-вторых, она включала в себя несколько этапов: выбор места для захоронения, транспортировка тела умершего, подготовка погребального костра и т. д. [Митько, 1994]. В-третьих, существуют отрывочные сведения о священнослужителях – шаманах или близких им по функциям людям, хотя основные элементы обряда погребения, вероятно, совершались под руководством глав семей и кланов. В-четвертых, достаточно дискуссионным остается вопрос о самой сущности религии кыргызов и, в частности, вопрос о степени проникновения манихейства в тра- диционное мировоззрение номадов. Еще в первой половине XI в. Абурайхан Бируни отмечал, что «веру Мани и его учение исповедуют большинство восточных тюрков, обитатели Китая, Тибета и части Индии» [Бируни, 1957. C. 11]. Однако данные сведения, безусловно, нужно рассматривать весьма критически, а не как аксиому. Дело в том, что манихейство в это время, наряду с христианством, рассматривалось мусульманскими авторами в противопоставлении исламу. В этой связи степень распространения манихейства среди неисламских регионов и стран могла быть существенно преувеличена.
Ученые практически единогласны в том, что манихейство имело прочное положение в Уйгурском каганате, где оно носило статус государственной религии (см.: [Камалов, 2001; Бартольд, 2002. C. 52; Ермоленко, 1990. C. 122–123; Виденгрен, 2001. C. 197] и др.), хотя имеющиеся данные свидетельствует и о сохранении многих традиционных верований. В отношении степени распространения манихейства в Кыргызском каганате у исследователей сложились разные мнения. Практически никто из них не отрицает того, что кыргызы, как и другие кочевые народы, были знакомы с учением пророка Мани [Худяков, 1987; 1999; Maеnchen-Helfen, 1951; Караев, 1968. C. 97; Скобелев, 2006 и др.]. В то же время Л. Р. и И. Л. Кызласовы [Кызласов, 1969. C. 127; 1999; Кызласов, 2004 и др.] настаивают на государственном статусе этой религии в Кыргызском каганате. К аналогичному выводу пришел и Ю. А. Зуев [2002. C. 255]. О значительной степени распространения манихейства у тюркоязычных номадов, по мнению сторонников государственного статуса манихейства, свидетельствуют письменные (в том числе рунические) источники, храмы и монастыри, обнаруженные в Минусинской котловине и на Алтае [Кызласов, 2003; Кызласов, 2004]. При этом традиционные шаманские верования и обряды сохранили свое значение в мировоззрении. Именно религиозный синкретизм манихейства и шаманизма дал основание Л. Р. Кызласо-ву высказать мысль об особом «сибирском манихействе», получившем распространение у кыргызов. Более осторожную и аргументированную позицию изложил Ю. С. Худяков [1987; 1999]. Ученый указывает на то, что к периоду IX–X вв. относится большая часть сведений о знакомстве кыргызов с разными религиозными традициями, в том числе манихейством и буддизмом. Это обусловлено полиэтничным характером государственного образования номадов. Другой тюрколог, В. Я. Бутанаев [2003. С. 10], как отмечено выше, полагал, что религия кыргызов во многом соответствовала зороастризму, который мог быть заимствован через культурное взаимодействие с Ираном. В то же время этнограф, опираясь на историко-лингвистические данные, поддержал мнение С. Г. Кляшторного о возможности проникновения несторианства к кыргызам в начале IX в. в противовес позиции Л. Р. Кызласова, настаивавшего на государственном статусе манихейства у номадов [Там же. C. 15–16].
Безусловно, рассмотрение степени распространения манихейства среди народов Сибири и Центральной Азии является отдельным направлением исследования, не входящим в задачи данной публикации. Однако необходимо обратить внимание, что сведения письменных источников (китайских, рунических), которые интерпретируются Ю. А. Зуевым как манихейские (или отражающие основы манихейского вероучения), касаются главным образом элиты кыргызов. Так, востоковед отмечает, что согласно китайским источникам некоторые кыргызские каганы носили титул «каган Света». В рунических кыргызских надписях также встречаются отрывочные сведения, которые свидетельствуют, по мнению ученого, о проникновении в мировоззрение номадов манихейства. В данном случае речь идет о различных эпитафиях, в которых отмечены такие понятия, как «мар» (наставник) и «дом», т. е. молельня [Зуев, 2002. C. 252–255]. В то же время С. Г. Кляштор-ный, опираясь на ту же источниковую базу, отмечал, что религиозный синкретизм манихейства и центрально-азиатского христианства затрудняет атрибуцию языкового, а также иконографического материала. Однако имеющиеся в распоряжении ученого данные позволили ему склониться к выводу о распространении к середине IX в. среди кыргызской аристократии несторианства, а не манихейства [Кляшторный, 1959. C. 166–167].
Несмотря на дискуссионность религиозного синкретизма у кыргызов, важно обратить внимание на два момента. Во-первых, судя по письменным, археологическим ис- точникам, иконографическим материалам (изображение крестов, служителей культа на скалах), в Центральной и Средней Азии в период Кыргызского каганата активно действовали как манихейские, так и несторианские миссионеры (см.: [Кычанов, 1978; Восточный Туркестан…, 1992. C. 506–549; Кляшторный, 1959. C. 166–167; Из истории древних культов…, 1994; Golden, 1998; Скобелев, 2006] и др.). В то же время по-прежнему сохранял сильные позиции в мировоззрении шаманский комплекс верований и обрядов. Во-вторых, в распространении новых религий могли участвовать не только миссионеры, но и представители покоренных народов, которые либо изначально были лояльны к кыргызам, либо перешли к ним на службу. В данном случае интересным является факт перехода на сторону кыргызов уйгурского полководца Гюйлу Мохэ вместе со своими воинами [Бичурин, 1998. C. 364], которые, несомненно, уже были знакомы с манихейством. В-третьих, кыргызские эпитафии, в которых упоминается термины мар-наставник и дом-молельня (монастырь и т. п.), как правило, созданы в честь политической и военной элиты, а не «рядовых» номадов. В этой связи новая религиозная доктрина получала широкое распространение только у части кочевого общества, и успех ее во многом зависел от религиозных симпатий и политики правящего клана и его окружения. Поскольку профессиональные воины-дружинники всегда являлись основной опорой политической элиты, то и их религиозные взгляды, как правило, совпадали. Таким образом, даже формальное наделение религии статусом государственной еще не означает быстрое принятие ее обществом.
Необходимо также отметить, что в средневековье на территории Евразии было распространенным явлением формирование полиэтничных государственных образований (см.: [Кляшторный, Султанов, 2004; Савинов, 2005; Кляшторный, Савинов, 2005] и др.). В таких государствах, как правило, выделялась доминирующая этническая группа из числа завоевателей, которая представляла собой высшую элиту. С другой стороны, внутри кочевого политического объединения формировалась или поддерживалась местная элита, представители которой могли занимать прочные позиции в социальной иерархии [Тишкин, 2005. C. 53]. Взаимоот- ношения между этносом-элитой и другими племенами, входящими в Кыргызский каганат, были различны: подарки, «подати», военная поддержка и др. [Савинов, 2005. C. 36–37]. Это обстоятельство позволяет говорить об определенной межэтнической иерархии в государстве кыргызов и учете религиозных традиций разных племенных групп.
В кыргызское время в горных районах Алтая проживали тюркские племена, утратившие свое военно-политическое могущество в Центральной Азии. На территории предгорий же обитали носители культурной традиции сросткинского археологического типа, сформировавшегося в результате подчинения местных самодийских племен тюркам II Восточно-Тюркского каганата [Неверов, Горбунов, 2001]. Имеющиеся материалы демонстрируют различный характер отношений между отмеченными этническими группами в разные периоды. Поскольку тюрки в IX–X вв. выступали союзниками кыргызов в войне против уйгуров, то на этом этапе наблюдалось их мирное сосуществование. Об этом, в частности, свидетельствуют погребальные памятники, сооруженные в пределах одного социального и сакрального пространства, как в горных, так и в предгорных районах Алтая (см.: [Могильников, 1990; 2002. Рис. 1; Дашков-ский, 2007а] и др.). Дополнительные сведения о взаимоотношениях кыргызского и тюркского населения в IX–X вв. можно обнаружить в тексте рунических надписей из Мендур-Соккона. В одной из них от имени местного тюркского населения приводятся такие слова: «Мой старший брат герой и знаменитый киргиз» [Баскаков, 1966. C. 80–81]. Приведенные данные подтверждают достаточно стабильные в первый период отношения с местным населением и отсутствие государственной религиозной политики, направленной на закрепление манихейского мировоззрения среди подчиненных этнических групп. В противном случае по религиозным и идеологическим причинам кыргызы вряд ли стали бы хоронить своих умерших людей на общих могильниках и позволили сохранять традиционные формы погребально-поминальной обрядности.
Лояльное отношение каганов к различным религиозным традициям зависимых племен обусловлено характером самой вла- сти правителей полиэтничных государств. В таких политических образованиях каганы должны были учитывать не только интересы доминирующего этноса, но и остальных этнических групп. Правители номадов, несмотря на сакрализацию (см.: [Угдыжеков, 1997; Скрынникова, 1997; Дашковский, 2007в] и др.), не обладали абсолютной властью и постоянным стабильным положением даже в рамках своего этноса. Это обстоятельство останавливало каганов от резкого навязывания единообразного мировоззрения, хотя его значимость, безусловно, признавалась. В степном мире более важным было выражение политической лояльности и военной поддержки правителю. Для постепенного же сложения единой религиозной системы в рамках полиэтничного государства требовался более длительный период, который в средневековье прерывался военно-политическими событиями и сменой расстановки сил в Южной Сибири и Центральной Азии.
В последние годы опубликованы новые сведения о деятельности в Саяно-Алтае манихейских миссионеров. В частности, Л. Р. Кызласов [1999] указывал на существование манихейских стационарных храмов в дельте р. Уйбат и в котловине Сорга. Однако другие исследователи, не исключая религиозного назначения отдельных построек, полагают, что требуется дополнительная аргументация такого вывода [Скобелев, 2006. С. 85]. Данное заключение вполне оправдано, если учесть еще, что ранее Л. Р. Кызласов [1981а. C. 50; 1981б. C. 57] и И. Л. Кызласов [1981. C. 203] указанным сооружениям давали несколько иную трактовку, на что справедливо обратил внимание С. Г. Скобелев [2006. С. 85].
Следует отметить, что если в Минусинской котловине выявлены сооружения, которые хотя бы гипотетически можно связать с манихейскими храмами, то на Алтае подобных объектов пока не обнаружено. Правда И. Л. Кызласов [2004] предлагает интерпретировать находки на Алтае рунических надписей религиозного содержания именно в качестве маркеров манихейских монастырей. Отсутствие монументальных сооружений религиозного характера на Алтае в средневековье объясняется И. Л. Кыз-ласовым использованием либо деревянных культовых сооружений, либо юрт, поскольку каменные храмы строились только в го- родах [Кызласов, 2004. C. 127–128]. Кроме этого, выявленные на Алтае рунические надписи относятся к VIII в., т. е. к докыр-гызскому периоду. Наконец, нужно отметить, что, по мнению востоковеда, имеются все основания говорить о формировании двух епархий в Центральной Азии. Первая включала Минусинскую котловину и Туву, а вторая – Северо-Западную Монголию и Алтай [Там же]. В данном случае представляется несколько преждевременным выделение определенной церковной структуры среди манихейских миссионеров в виде епархий, поскольку для этого нужна поддержка определенного государства, а также подтверждения из текстов письменных источников самих манихеев. Во-вторых, не совсем ясно, почему храмовые комплексы выявлены пока только в «первой епархии», а именно в Минусинской котловине, хотя согласно исследованиям Л. Р. Кызласова [1999. C. 34] указанный регион, наравне с Алтаем, с середины VIII в. связан с манихейскими миссионерами.
Безусловно, можно согласиться с мнением Ю. А. Зуева [2002. C. 260] о том, что манихейство легко приспосабливалось и даже включало в себя традиционные верования, а для совершения религиозных таинств могла использоваться юрта. Однако в тех районах, где община функционировала успешно и длительный период, сооружались монументальные культовые объекты (см.: [Кызласов, 1999. C. 22–32; Байпаков, Терновая, 2002; Кляшторный, 2006. C. 122] и др.). Об успехах манихейской миссии среди населения может свидетельствовать и погребальный обряд, тем более что у манихеев он обладал определенной спецификой: помещение костей, освобожденных от мягких тканей, в погребальные сосуды (хумы) [Кызласов, 2006. C. 321]. В связи с этим неслучайно С. Г. Кляшторный [1959. C. 167] считал, что частичная замена обряда кремации на ингу-мацию у кыргызов в IX в. связана с успехом несторианства, а не манихейства. Правда, Л. Р. Кызласов [1999. C. 70] полагает, что кыргызский обряд кремации идейно близок манихейской погребальной традиции, поскольку в обоих случаях не допускается осквернения телом земли. Однако, несмотря на внешнюю схожесть этих позиций, необходимо отметить, что погребальный обряд кыргызов, как и других центрально-азиатских народов раннего средневековья (уйгу- ров, тюрок), сформировался именно в рамках шаманского мировоззренческого комплекса. Устойчивость погребальной практики является демонстрацией реальной степени распространения манихейской веры среди населения. В данном случае показательным является ситуация с уйгурами. Несмотря на то, что правящая элита во главе с Бёгю-каганом сделала эту религию государственной в каганате [Бартольд, 2002. C. 52–53; Камалов, 2001. C. 143–144], что, тем не менее, не привело к существенной трансформации погребальной практики в соответствии с доктриной манихейства. Не изменился погребальный обряд и в Кыргызском каганате под влиянием манихейских миссионеров. Такая ситуация выглядит несколько странной, если, как полагают Л. Р. и И. Л. Кызласовы, манихейство было государственной религией и у кыргызов. Этот момент не отрицает фактов деятельности манихейских миссионеров, но он показывает интерес к новой вере преимущественно со стороны военной и политической элиты. Важно обратить внимание на то, что религиозный фактор часто использовался для решения определенных политических задач. Так, исследователи отмечают, что уйгурский правитель Бёгю и его окружение оказали значительную поддержку манихеям из-за стремления привлечь согдийцев на свою сторону в борьбе с Китаем [Восточный Туркестан…, 1992. C. 524]. Неслучайно после гибели в результате заговора Бёгю-кагана в 779 г. его преемники проводили антиманихейскую политику и только приход к власти нового клана в 795 г. сделал более благоприятной ситуацию для манихеев [Там же. C. 524]. Кроме того, уйгуры иногда под предлогом покровительства вере вмешивались в дела Китая. Воспользовавшись падением Уйгурского каганата под натиском кыргызов, Китай, чтобы исключить возможность вторжения последних, под религиозным предлогом в 843 г. запретил манихейское и несторианское вероисповедание в империи [Кляш-торный, 1959. C. 168–169]. Важно также обратить внимание на то, что при всей готовности манихейства к адаптации к различным традиционным мировоззренческим системам, тем не менее, известны случаи достаточно жесткой борьбы с религиозными конкурентами. Так, после провозглашения манихейства государственной религией Уйгурского каганата, вероятно, не без прямого одобрения священнослужителей новой веры, начались гонения на буддистов и уничтожение их святынь [Восточный Туркестан…, 1992. C. 524]. Такая религиозная политика была не характерной для кочевых империй Центральной Азии, которые отличались веротерпимостью в силу своей полиэтнично-сти и поликонфессиональности. Политика религиозной толерантности была характерна и для Кыргызского каганата, во всяком случае в период его могущества, что демонстрируется анализом планиграфии могильников на Алтае.
В свете последних публикаций по рассматриваемой проблематике несомненный интерес представляют работы Н. И. Рыбакова ([2006, 2007а–в] и др.), посвященные интерпретации известных и новых иконографических находок, интерпретируемых им как изображения манихейских миссионеров (или манихеев-буддистов). Активизация миссионерской деятельности в Южной Сибири связывается исследователем либо с расколом манихейской церкви в Согде в VII в., либо с гонениями на манихеев в Китае с середины IX в. [Рыбаков, 2007а. C. 105]. В то же время среди ученых высказываются и другие интерпретации как новых изображений, так и открытых в Хакасии еще в XIX в. экспедицией И.-Р. Аспели-на. Так, С. Г. Кляшторынй [1959. C. 166] и А. Б. Никитин [1984. C. 128] считают, что в данном случае представлены изображения несториан. С. В. Панкова первоначально отметила, что появление таких изображений связано с деятельностью миссионеров, но пока невыясненной религии, поскольку достаточных данных для их конфессиональной атрибуции нет [Панкова, 2000. С. 232]. В последующем исследовательница скорректировала свою позицию и обратила особое внимание на элементы одеяний «длиннополых фигур», имеющих аналогии в китайском костюмном комплексе эпохи Хань, а также на концентрацию рисунков в районе Белого и Черного Июса, где, возможно, находилась ставка Кыргызского каганата. Сами изображения С. В. Панкова уже интерпретировала в двух аспектах: либо как изображение посольства, либо каравана или группы миссионеров [Панкова, 2002. С. 138–139]. К точке зрения С. В. Панковой склоняется и С. Г. Скобелев [2006. C. 84–85].
Несмотря на дискуссионность в интерпретации изображений фигур в специфичных одеяниях, исследователи указывают, что в данном случае изображены, с одной стороны, представители иного, не кыргызского, народа. С другой стороны, представленные персоны имели очевидно высокий политический или религиозный статус. Знакомство кыргызской элиты либо с участниками посольств, либо миссионерами разных конфессий, несомненно, имело большое значение для кочевого общества, в том числе и для его мировоззрения. Таким образом, представителей миссионерской группы, которые во многих случаях пользовались поддержкой кочевых правителей, можно включить в состав религиозной элиты.
Сложным остается вопрос об археологическом аспекте изучения данной проблемы. Кроме отмеченных выше дискуссионных иконографических изображений людей в специфичных одеяниях (см.: [Рыбаков, 2006; 2007а–в] и др.), в Минусинской котловине известны немногочисленные чашечки-светильники, которые являлись частью портативных алтарей [Леонтьев, 1988. C. 179]. Отмеченные находки одними учеными связываются с манихейской миссионерской деятельностью [Кызласов, 1984. C. 146], а другими – с буддистской (см.: [Леонтьев, 1988. C. 179] и др.). Аналогичным образом трактовки даются исследователями при анализе кыргызской торевтики, отмечающими влияние различных конфессий (см.: [Худяков, 1987; 1998; Нечаева, 1966. C. 129; Кыз-ласов, 1984; Король, 2007; 2008] и др.). Интересная находка предмета, похожего на створку христианской панагии, была сделана в кыргызском погребении XII–XIV вв. на могильнике Койбалы-1 в Минусинской котловине [Скобелев, 2006]. С. Г. Скобелев справедливо отметил, что в данный момент трудно однозначно сказать, использовалась ли панагия в эстетических целях или как предмет религиозного благочестия. Однако данный факт может дополнительно свидетельствовать о деятельности христианских миссионеров в том регионе, где номады проживали или временно находились, например, во время военного похода. Серьезного внимания заслуживают и фрагменты тибетских рукописей, обнаруженные при исследовании кыргызских захоронений на могильнике Саглы-Бажи I в Туве [Грач, 1980]. Эти тексты представляли собой аму- леты с заклинательными надписями, широко распространенными в тибетской религии бон. Есть определенные основания полагать, что владельцами таких надписей могли быть не тибетцы, а кыргызы [Воробьева-Десятов-ская, 1980. C. 130]. Появление указанных текстов и соответствующих верований у кыргызов отмечено после установления прочных военно-политических связей с Тибетом, особенно после разгрома в 840 г. Уйгурского каганата [Грач, 1980. C. 120]. В то же время указанные находки относятся к погребениям лиц, не связанных непосредственно с религиозной деятельностью, и являются отражением их духовных симпатий, а не профессиональной деятельности.
Таким образом, несмотря на активное взаимодействие с соседними народами, миссионерскую деятельность, сакрализацию правителей, общегосударственные культы, тем не менее, формирование духовной элиты у кочевых народов Центральной Азии существенно отличалось от аналогичных процессов у земледельческих обществ. Это обусловлено особенностями социально-экономического, политического, культурного развития, образом жизни и мировоззрением номадов. В состав религиозной элиты в Кыргызском каганате входил каган, как са-крализованная персона, его клан и окружение, миссионеры, а также традиционные служители культа – шаманы, которые участвовали в наиболее значимых религиозных мероприятиях (в ритуале интронизации правителя, общегосударственных праздниках, жертвоприношениях и др.). Такой состав религиозной элиты стал формироваться в кочевых империях еще в гунно-сарматское время [Дашковский, 2008]. При этом следует отметить, что в повседневной жизни основной массы номадов существенную роль по-прежнему играли главы семей и кланов, которые являлись носителями сакральных знаний, связанных с обрядами жизненного цикла, в том числе погребально-поминального. Однако их деятельность по своей форме и содержанию не выходила за рамки небольшого коллектива, связанного родственными узами.
RELIGIOUS POLITICS AND MINISTERS OF RELIGION OF KYRGYZ KAGANAT