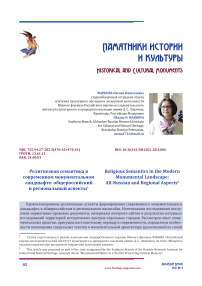Религиозная семантика в современном монументальном ландшафте: общероссийский и региональный аспекты
Автор: Маркова Оксана Николаевна
Журнал: Наследие веков @heritage-magazine
Рубрика: Памятники истории и культуры
Статья в выпуске: 4 (28), 2021 года.
Бесплатный доступ
Проанализированы религиозные аспекты формирования современного монументального ландшафта в общероссийском и региональном масштабах. Источниками исследования послужили нормативно-правовые документы, материалы интернет-сайтов и результаты натурных исследований территорий исторических центров отдельных городов. Рассмотрен опыт монументальных практик, присущих постсоветскому периоду и современности, определены особенности воплощения сакральных текстов в монументальной архитектуре (религиозной по своей сущности) и монументальной скульптуре (являющейся проявлением светской культуры). Характеризуется взаимодействие государственной власти и церкви в вопросах монументальной политики и моделирования официальных практик памятования. Обозначены роли религиозного монументального искусства в культурных ландшафтах и в социально-культурной среде. Установлено, что монументы с религиозной символикой и церковная архитектура транслируют идеи устойчивости и непрерывности традиции в условиях глобализации.
Монумент, монументальное искусство, монументальная политика, монументальный ландшафт, религиозная символика, православные храмы, воссоздание храмов, памятники святым, национально-православное возрождение
Короткий адрес: https://sciup.org/170191479
IDR: 170191479 | УДК: 725.94:27-282.3(470-35+470-41) | DOI: 10.36343/SB.2021.28.4.006
Текст научной статьи Религиозная семантика в современном монументальном ландшафте: общероссийский и региональный аспекты
Настоящая работа нацелена на то, чтобы проанализировать религиозные аспекты современных российских монументальных практик, выявить их основные направления и дать характеристику представленности религиозного компонента в современном монументальном ландшафте страны с учетом его региональных проявлений.
Источниковую базу исследования составили документы нормативно-правового характера, информационные материалы интернет-сайтов, результаты натурных обследований территорий исторических центров южнороссийских городов.
Для достижения поставленной цели применен комплексный междисциплинарный подход, базирующийся на традиционных методах гуманитарных исследований — историкосравнительном, типологическом, а также методе включенного наблюдения, обоснованного многолетней экспертной деятельностью автора в сфере сохранения объектов культурного наследия. Исследование в целом призвано расширить представления о городском ландшафте как о многослойной и поликом-понентной системе, формирующей и объединяющей различные способы «репрезентации, структурирования и символизирования окружающей среды» [68, p. 1].
Научная новизна работы состоит в представлении результатов впервые проведенного синхронного анализа разных видов монументального искусства — произведений архитектуры, круглой скульптуры, архитектурноскульптурных композиций, имеющих в данном случае общую основу в виде религиозной образности.
Появление и стремительное развитие религиозного направления в российских монументальных практиках постсоветского периода явилось материальным отражением сложных социально-политических процессов, начавшихся в стране в конце 1980-х гг. В условиях слома обеспечивавшей функционирование СССР государственной идеологии социализма и при отсутствии равноценной ей замены «наиболее простым путем формирования массовой идеологической базы была избрана дуалистическая ориентация на возрождение традиционализма и религиозности, которые ранее ограничивались, а порой даже преследовались коммунистическим режимом»
[9, с. 25]. На высшем уровне традиционные конфессии страны были приравнены к «ядер-ному щиту России» и названы «составляющими, которые укрепляют российскую государственность, создают необходимые предпосылки для обеспечения внутренней и внешней безопасности страны» [2, с. 27]. Ведущая роль была ожидаемо отдана Русской православной церкви с ее многовековым опытом выстраивания с властью единства целей для сохранения и упрочения государства в переломные для него периоды.
Изменение в начале 1990-х гг. государственного устройства и вызванная им смена культур, что, по словам Ю. М. Лотмана и Б. А. Успенского, «сопровождается обычно резким повышением семиотичности поведения» [34, с. 486], проявились, в частности, в символическом отражении национальноправославного возрождения и закреплении некогда существовавшей идеи «симфонии священства и царства» [6, с. 33], апробированными в течение десятилетий советской власти средствами монументальной пропаганды через архитектуру и искусство. С одной стороны, это явилось внешней демонстрацией упрочения позиций Русской православной церкви, начало которому было положено еще в позднем СССР широким празднованием 1000-летия Крещения Руси. В то же время базировавшиеся на религиозной символике монументальные практики явно или косвенно продвигали идею сакральности самой государственной власти — сакральное, как известно, «не может существовать иначе, кроме как в виде символа» [46, с. 20]. И здесь на первый план вышла архитектура, что вполне соответствовало прерванной в советское время традиции, в которой, как отмечает Е. И. Кириченко, всплески православного возрождения «наиболее последовательно и исчерпывающе» были представлены «храмоздательством и градостроительством» [26, с. 288]. В этом отношении «православный ренессанс» 1990– 2000-х гг. не стал исключением, визуально проявившись во внедрении знаковых памятников религиозной культуры, возвращавших образы утраченных в монументальные ландшафты городских и сельских поселений, и создании новых объектов культового зодчества.
Переформатирование секуляризированных в советское время населенных мест началось, в частности, с вернувших традиции русской «сакральной архитектурной ком-меморации» [16, с. 55] мемориальных часовен, возводившихся в память о разрушенных больших и малых храмах. Так, в 1991–1993 гг. в Новосибирске появилась Свято-Никольская часовня, возродившая образ утраченной часовни-памятника начала ХХ в., возведенного в ознаменование двадцатилетнего юбилея со дня закладки железнодорожного моста через Обь [65]; памятником утраченному главному храму кубанского казачества — войсковому Александро-Невскому собору, просуществовавшему с 1872 по 1932 гг., — стала часовня святого благоверного князя Александра Невского в Краснодаре, установленная в 1993–1995 гг. [62]; в 1997–1998 гг. в Самаре воссоздали часовню в честь Алексия, митрополита Московского, ее оригинал был возведен в 1890 г. как памятник святителю, по преданию, предсказавшему возникновение города [49].
Эти и другие аналогичные им объекты как архитектурные акценты окружающего их пространства и монументальные проводники идеи возрождения национальной культурной памяти визуально трансформировали локальные культурные ландшафты, в которые они были помещены, и наделили их новыми социокультурными ролями: часовни-памятники стали «местами памяти», частью экскурсионно-туристических программ, прилегающие к ним территории были облагорожены и в большинстве случаев обрели значение общественных пространств, мест «социального притяжения». При этом градостроительные изменения в то время осуществлялись с достаточной степенью «архитектурной деликатности» и в большинстве своем получили одобрение общества.
В этом же идейном русле в 1990-х гг. происходило постепенное возвращение в пространственную среду поселений уже полноценных храмов — ранее утраченных или ощутимо видоизмененных в процессе эксплуатации. Движущей силой этого процесса в то время выступала в основном церковноправославная общественность и радетели старины. По их инициативам были воссозданы или восстановлены многие яркие архитектурные памятники, среди которых: Свято-Ильинская церковь в Выборге [36] [22], Софийская церковь Казанского Богородицкого монастыря [23], храм Иоанна Предтечи в Волгограде [63], храм в честь святых бессребреников Космы и Дамиана в поселке Думи-ничи Калужской области [64] [38], московские храмы — святого великомученика Димитрия Солунского, Казанский собор и другие [15] [40]. Большое значение при этом уделялось поискам критериев подлинности (в том числе, подлинности места) и максимальной приближенности к первоначальным характеристикам воссоздаваемых объектов. Например, на старом фундаменте был возведен Иоанно-Предтеченский храм в Волгограде, на историческом месте восстановлены церковь в Думи-ничах и Свято-Ильинская церковь в Выборге.
Ярким примером научного подхода к воссозданию храма-памятника стали работы по возвращению из небытия Казанского собора на Красной площади в Москве, построенного в XVII веке в честь освобождения Москвы и России от польско-литовских интервентов и разрушенного в 1936 г. Его восстановление началось в конце 1980-х гг. благодаря усилиям Московского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры при поддержке правительства Москвы, а завершилось в 1993 г., когда храм и был освящен.
Давая оценку этому событию, автор проекта воссоздания архитектор-реставратор О. И. Журин обозначил в целом особое значение материального воплощения культурной памяти в образах наделенной глубокой символикой и духовными смыслами церковной мемориальной архитектуры: «Воссоздание памятника — это прежде всего повторение древних его форм, воплощенной в материал символики, не говоря уже о возобновлении его изначальных функций. Воссоздание памятника — это вещественное воплощение важнейших исторических событий, которые народ и государство считали нужным оставить в памяти на долгое время. Воссоздание памятника — это воссоздание ансамблей застройки площадей, улиц, исторического облика города в целом» [19]. Очевидно, что в усло- виях национально-православного ренессанса, развившегося на фоне общей социальнополитической нестабильности 1990-х гг., эти факторы оказались в числе определяющих при обращении к религиозному языку в ходе постсоветской трансформации, в первую очередь городских ландшафтов. Однако в существовавшей на тот момент сложной экономической ситуации в стране процесс этот был не быстрый.
Особого размаха деятельность по воссозданию знаковых культовых объектов достигла в XXI в. В 2000-х гг. позиции Русской православной церкви в политической системе страны еще более усилились — она получила статус «института общенационального значения» и «наиболее представительного источника возрождения идей традиционализма как важной составной части идеологических основ современной России» [9, с. 28]. Внешним проявлением этого стало активное включение государственной власти в процессы по возвращению в градостроительные пространства утраченных крупных храмов и храмовых комплексов, символическое начало которому было положено воссозданием храма Христа Спасителя в Москве.
Как известно, этот храм был построен в 1837–1883 гг. в память о победе России в Отечественной войне 1812 года, что отвечало древней национальной традиции сооружать храмы-памятники (иначе — мемориальные храмы) в честь важнейших исторических событий. В частности, в 1022 г. князем Мстиславом Владимировичем была построена церковь в Тмутаракани в честь победы над касожским князем Редедей; в ознаменование победы над волжскими булгарами в 1165 г. князь Андрей Боголюбский возвел храм Покрова на Нерли; множество мемориальных храмов было создано в Москве: церковь Всех святых на Кулишках в ознаменование победы на Куликовом поле (1380 г.), посвященные взятию Казани Покровский собор, известный также как собор Василия Блаженного (1855–1861 гг.), упоминавшийся выше Казанский собор и многие другие. Но именно Отечественная война 1812 г. вызвала в России «подлинный всплеск интереса к проектированию храмов-памятников воинской славы» [37, с. 144].
В своем исследовании такого рода культовых сооружений М. В. Нащокина подчеркивала, что храм Христа Спасителя возводился как «национальная святыня» и «своеобразный музей Отечественной войны 1812 г.», в котором впервые воплотилось «неразрывное сочетание культового и конкретно-исторического содержания» и был сделан «новый шаг в формировании типа храма-памятника. В дальнейшем многие из приемов, впервые использованных при сооружении храма Христа, были применены в других воинских мемориальных храмах второй половины XIX — начала XX вв.» [37, с. 146].
Очевидно, что появление столь мощного в смысле духовной составляющей и внешней выразительности объекта имело не только и не столько религиозное значение, но предстало ярким актом демонстрации «сакрального смысла власти российского самодержавия» в условиях «поднявшейся волны свободомыслия» [35, с. 166] и вместе с тем выражением идеи «народности» этой власти, которая постаралась привлечь к созданию национальной святыни широкие слои общества: «каждый гражданин страны мог внести свою лепту в сооружаемый храм-памятник и, таким образом, стать причастным к всенародному делу», в то время как «материальную основу строительства составляли между тем средства государства и общественных организаций» [37, с. 146]. После освящения храма все это отразилось в его функциях: до революции он использовался и по прямому назначению — как крупный религиозный объект — и как важный общественно-культурный центр, а позже, утраченный физически, он сохранился в культурной памяти как ментальный образ старой России.
Поэтому, когда на исходе советской эпохи стали обсуждаться вопросы национального возрождения, одной из первых была озвучена выдвинутая православной общественностью идея «воссоздания храма — Воплощенного Покаяния» [31, с. 62]. По этому поводу в 1989 г. провели «народный референдум» и даже начался общественный сбор добровольных пожертвований на разработку проекта храма.
Однако в 1990 г., после получения со стороны государства разрешения на строитель- ство, церковное руководство «в стремлении вернуться к разрушенной модели взаимодействия светской и духовной власти» взяло этот процесс под свой контроль — будущий храм Христа Спасителя был объявлен федеральным собором Москвы и переведен в непосредственное ведение патриархии [31, с. 62]. В 1992 г. к делу подключилось столичное правительство, которое добавило храм в «Перечень объектов Москвы, строительство и реконструкция которых обеспечиваются в первоочередном порядке» [54], а в 1994 г. общественным попечительным советом был учрежден фонд финансовой поддержки воссоздания Храма Христа Спасителя с целью «аккумулирования средств и финансирования крупнейшего созидательного проекта конца ХХ века» [58].
В 1995 г. проекту воссоздания памятника было придано значение государственной важности — Указом Президента Российской Федерации храм Христа Спасителя получил статус «исторического, архитектурного и культурного памятника героям Отечественной войны 1812 года», который должен был «стать действенным средством единения и духовного возрождения России» [55]. При том, что прямых бюджетных ассигнований на строительство не предусматривалось, государство поспособствовало его финансовому обеспечению за счет предоставления широких налоговых преференций жертвователям.
В 2000 г. строительство завершилось и храм был освящен. Он стал крупнейшим в России — его расчетная вместимость составила 10 тысяч человек. Несмотря на то, что новый храм не стал точным повторением своего исторического прототипа и по ряду причин вызвал острую критику со стороны профессиональной и, в частности, научной общественности, внешний облик и преобразившие окружающее пространство доминантные объемно-пространственные характеристики культового здания обеспечили ему несомненный статус монументального символа постсоветской идеологической парадигмы, с этого момента прочно включившей в свой инструментарий религиозный фактор. Как результат, практика воссоздания наиболее значимых православных соборов распространилась по всей стране.
Примером тому может служить история появления войскового Александро-Невского собора в Краснодаре. Как уже отмечалось, в память о нем близ места его первоначального нахождения — в городском сквере Центральный (бывшей Соборной площади) — в 1990-е гг. была установлена небольшая мемориальная часовня. Но уже в 2000 г. состоялся конкурс на проект воссоздания самого храма, победителем стал краснодарский архитектор В. Т. Головеров [20]. В 2003 г. решение о возведении собора подписал губернатор Краснодарского края, после чего торжественно заложили камень в основание постройки. Место при этом было выбрано не историческое, а шестью кварталами южнее, в самом начале главной городской магистрали — улицы Красной.
О том, что воссозданию одной из важнейших кубанских казачьих святынь придавалось большое значение со стороны властей, помимо прочего, может свидетельствовать факт их непосредственного участия во всех значимых церемониях, связанных с открытием собора, включая освящение крестов и колоколов, совершенное в 2005 г. патриархом Московским и всея Руси Алексием II, а также освящение завершенного строительства собора, на которое был приглашен митрополит Калининградский и Смоленский Кирилл, с 2009 г. — патриарх.
Примечательно, что «новодельный» собор уже в 2009 г. распоряжением главы администрации Краснодарского края был поставлен под государственную охрану как объект культурного наследия [44], что дало возможность его финансирования из бюджетных средств, в то время как по федеральному закону от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» для придания зданию статуса памятника должно было пройти не менее сорока лет.
Спорным также оказалось визуальное восприятие собора в «перегруженном» дисгармоничными объектами пространственном контексте, на что в свое время обратил внимание В. В. Бондарь: «Новый храм оказался в этом месте чужеродным пространственным элементом: несмотря на монументальность и внушительные размеры, он не стал высотной доминантой, поскольку расположен на фоне колоссального стекло-металлического здания Главного управления Центрального банка России по Краснодарскому краю. В то же время культовое здание выглядит слишком массивным по отношению к неширокой Постовой улице и пространственному ансамблю Екатерининского сквера с небольшой площадью перед ним. Кроме того, размещение храма на оси Красной улицы, протянувшейся с юга на север, противоречит пространственной сути любого христианского храма, формирующегося по оси «запад-восток»» [8, с. 61].
Тем не менее, даже при наличии явных архитектурно-градостроительных ошибок, вызванных в первую очередь избыточным административным вмешательством в дело восстановления памятника, нельзя сказать, что этот проект оказался полностью неудачным. Сама монументальная архитектура Александро-Невского собора, приближенная к первоначальным формам с заложенными в них глубинными духовными смыслами, обращенная к исторической и культурной традиции края, обеспечила ему доминирующее положение в окружающем пространстве, роль места общественного притяжения, значение одной из основных достопримечательностей краевого центра.
Аналогичным образом развивались события во многих других провинциальных центрах России, где деятельность по возвращению в культурные ландшафты значимых православных храмов-символов вышла за пределы исключительных интересов РПЦ и обрела поддержку со стороны государственных и региональных властей. Например, в целях восстановления Михайловского кафедрального собора в Ижевске, возведенного в 2000–2007 гг., было принято совместное постановление Президиума Государственного Совета Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики [43]; Успенский кафедральный собор (Собор в честь Успения Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии) в Омске, торжественно освященный в 2007 г., воссоздавался как региональный памятник истории и культуры по решению правительства Омской области; строительство собора Казанской иконы Божьей Матери Казанского
Богородицкого монастыря было осуществлено в 2016–2021 гг. по Указу Президента Республики Татарстан [53]; при поддержке региональных властей в 2016–2021 гг. был возведен Александро-Невский собор в Волгограде [32]. Напротив, без весомой поддержки со стороны официальных властей процесс строительства храмов растягивался во времени: в частности, до сих пор не завершены работы по воссозданию Спасского кафедрального собора в Пензе (строительство начато в 2010 г.) [51], СпасоПреображенского кафедрального собора Тверской епархии (работы ведутся с 2014 г.) [14] и ряда других.
В то же время следует отметить, что набравшая обороты в 2000-е гг. монументальная «маркировка» значимых для национальнокультурной идентичности территорий страны памятниками церковной православной архитектуры в следующем десятилетии отчасти затруднилась из-за возникшего сопротивления такой практике некоторых слоев российского общества.
Показателен в этом отношении опыт Екатеринбурга. В работе Д. С. Бахарева и Е. М. Гла-вацкой, рассматривавшей процесс физического и функционального возвращения исторических церковных зданий в пространственную среду этого крупного российского мегаполиса за период с конца 1980-х по 2017 гг., было отмечено, что «Русская православная церковь смогла вернуть или отстроить заново более 20 богослужебных зданий в Екатеринбурге», в числе которых были многие значимые «доминанты ландшафта “старого” Екатеринбурга — Церковь Вознесения (до 1991 г. — Свердловский городской историко-революционный музей), вновь отстроенный храм-колокольня “Большой Златоуст”, Свято-Троицкий кафедральный собор (до 1995 г. — клуб ДК Автомобилистов) и Собор Александра Невского НовоТихвинского монастыря (до 1991 г. — корпус областного краеведческого музея)», однако попытка восстановления Екатерининского собора «стала первым препятствием на пути дальнейшего расширения православного ландшафта города» [7, с. 146–147].
Идея воссоздания Екатерининского собора, считавшегося первым православным храмом Екатеринбурга, впервые была озвуче- на в 2010 г. Тогда предполагалось, что храм будет возведен в облике, сложившемся к 1896 г., на своем историческом месте — бывшей Екатерининской площади, в советское время преобразованной в площадь Труда. Однако к этому времени здесь уже имелась мемориальная часовня с именем святой Екатерины, установленная в 1997–1998 гг. в ознаменование 275-летия города [21]. Кроме того, на площади располагалась местная достопримечательность — фонтан «Каменный цветок», созданный в 1950 г. уральским архитектором П. Де-менцевым по мотивам сказов П. П. Бажова [59]. Это стало поводом для возникших в 2011 г. массовых протестных акций, организованных оппозиционной общественностью, в итоге приведших к отказу от реализации идеи воссоздания храма на месте снесенного в 1930 г. оригинала [10]. Вторая попытка построить в Екатеринбурге собор в честь святой покровительницы города относится к 2016 г.— тогда городскими властями был представлен новый эскизный проект (не связанный при этом с обликом старого храма). Под размещение культового здания предусматривалось создание специального насыпного острова в бассейне городского пруда [60]. Но и в этот раз проект был отклонен из-за выступлений противников церковного строительства. Также не увенчался успехом предложенный в 2018 г. третий вариант размещения собора — на Октябрьской площади у театра драмы. И лишь в 2020 г. по результатам общегородского голосования было определено место строительства Екатерининского собора на территории бывшего Уральского приборостроительного завода. Предполагается, что собор как один из символов города будет возведен к 300-летию Екатеринбурга, но перспектива достижения этой цели на сегодняшний день остается неясной.
Екатеринбургская история несостояв-шегося восстановления исторического памятника и знакового религиозного символа была одной из самых резонансных в стране, хотя разной степени негативные реакции на строительство новых, особенно масштабных, храмов в 2010-х гг. наблюдались повсеместно, и одними из последних были недавние протестные события, связанные с возве- дением волгоградского Александро-Невского собора [13].
При всех сложностях и противоречивости процесса культовые объекты строились в стране повсеместно и довольно быстрыми темпами: в частности, по данным интернет-ресурса «Храмы России», в течение первых двух десятилетий XXI в. в России было построено более 8 тысяч храмов различного масштаба, а всего по состоянию на 2021 г. насчитывалось 16078 действующих и 347 строящихся церковных зданий [61]. Распространение культовой архитектуры, насыщенной религиознодуховной семантикой, стимулировалось ее основной функцией места совершения богослужений и поддерживалось ростом числа верующих, нуждавшихся в таких местах. Образовавшие широкую сеть православные храмы, архитектурно-художественные и объемнопространственные особенности которых априори выделяли их в окружающей среде, за три постсоветских десятилетия не просто значительно видоизменили монументальный ландшафт страны, привнеся в него сакральные черты,— они предстали официальной манифестацией преемственности власти, традиционализма и незыблемости духовных устоев, а также вполне успешным инструментом сохранения культурной памяти и национальной идентичности.
В отличие от религиозной по своей сути архитектуры храмов скульптурные памятники святым, во множестве появившиеся в постсоветское время, были в первую очередь проявлением культуры светской, причем неоднозначно воспринятой в церковной и нецерковной среде [68] [11] [30]. В частности, отмечалось, что «сама по себе традиция ставить памятники великим людям, конечно, неплоха», однако для православия ее «нельзя назвать исконной» [68]. При этом, вне сомнения, такого рода монументальная коммемо-рация соответствовала задачам государственным, поскольку «именно памятники наиболее непосредственно связаны с инстанциями власти, определяющими политику памяти», при этом «сооружение любого монумента невозможно без санкции власти» и, более того, «власть утверждает свой “фундаментальный лексикон” сооружением памятников»
[2, с. 67–68], используя их глубинное свойство мощного визуального символа, имеющего прямое воздействие на массы и одновременно служащее знаком идентификации.
Инициатива монументального увековечивания святых, так же как и в истории с воссозданием храмов, в России изначально возникла снизу — в среде православной общественности в «перестроечное» время конца 1980-х гг. Первым монументом в этом ряду стал трехметровый памятник Сергию Радонежскому, выполненный в 1987 г. скульптором В. М. Клыковым в виде реплики на картину М. В. Нестерова «Видение отроку Варфоломею». «Громкое» открытие объекта состоялось в 1988 г. и вылилось в акт гражданского неповиновения власти [24] [25], тем самым подтверждая трактовку памятника как маркера идентичности, ведь «любая попытка смены монументальной риторики, любые новации в этой области провоцируют острую общественную полемику, а также борьбу групп бенефициаров монументальной политики, тех, кто так или иначе причастен к конструированию образов идентичности» [2, с. 68].
Что касается тематического спектра монументального пантеона святых, то самую значительную его часть составили памятники реальным историческим личностям, в разное время канонизированным церковью. В числе таковых, установленных в 1990-е гг., памятники Александру Невскому в Городце (1993 г., скульптор И. И. Лукин), Даниилу Московскому на Серпуховской площади в Москве (1997 г., скульпторы А. Коровин, В. Мокроусов), великой княгине Елизавете Федоровне в Москве, святому преподобному Серафиму Саровскому в Сарове, Кириллу и Мефодию на Славянской площади в Москве, святому Владимиру в Севастополе, Илье Муромцу в Муроме (1990, 1991, 1992, 1994 и 1999 гг. соответственно, скульптор В. М. Клыков) и другие.
Другую группу монументальных образов составили воплощения известных библейских героев и сюжетов в качестве символов для отображения определенных идей, событий, явлений. Примером тому может служить скульптурное изображение святого Георгия Победоносца в момент битвы со змеем, ставшее олицетворением победы Добра над
Злом. Скульптурные группы с таким сюжетом, в частности, увенчивали триумфальные арки в составе мемориальных ансамблей, посвященных легендарному маршалу Советского Союза Г. К. Жукову (1998 г., мемориальный комплекс «Курская дуга» на границе Белгородской и Курской областей; 1996–1997 гг., мемориальный ансамбль в сквере им. Жукова г. Краснодара).
К этому же направлению монументального искусства можно отнести памятники святым и небесным силам — покровителям городов и других населенных мест, в их числе: памятник святой Екатерине в Краснодаре (2009 г., скульпторы Д. Успенская, В. Шанов), монументы Архангелу Михаилу в Сочи (2006 г., скульптор В. Зеленко, архитектор С. Сухоруков) и в Архангельске (2002 г., скульптор А. Благовестов) и прочие.
В целом использование религиозной риторики в монументальном освоении культурных ландшафтов в 1990-е — начале 2000-х гг. было большей частью стихийным и зависело от благорасположения местных властей. Ситуация изменилась, когда эта деятельность стала частью масштабных государственно-церковных программ. В 2004 г. начала работать первая из них — федеральная программа «В кругу семьи», инициированная патриархом Алексием II по итогам церковно-общественного форума «Духовнонравственные основы демографического развития России», в котором также приняли участие представители органов государственной власти. Работа по направлениям программы продолжалась до 2015 г. В ее миссии были заявлены следующие цели: «создание государственной идеологии, направленной на возрождение семьи в России, создание положительного образа полной многодетной семьи, пропаганда — целомудрия, верности, любви и преданности в браке, радости отцовства и материнства, заботы о родителях, воспитания детей в духе патриотизма и любви к Родине» [39]. Таким образом, несмотря на то что концепция программы и ее продвижение исходили от церкви, это был не религиозный, но исключительно социальный проект.
В составе программы был раздел «Скульптурные композиции», предусматривавший сооружение памятников князю Петру и княгини Февронии Муромским, которые должны были «положить начало новой традиции среди молодежи — в день бракосочетания совершать поездки к скульптуре Муромских святых» [39]. Таким образом, монументы не просто визуально закрепляли транслируемые церковью и государством идеи — они наделялись общественно-значимой функцией, направленной на формирование новой социокультурной реальности.
В 2008 г. день Петра и Февронии получил официальный статус праздника. Тогда же в Сочи, Новосибирске и Екатеринбурге были освящены закладные камни в основание будущих памятников, к 2013 г. скульптурные изображения князя и княгини Муромских имелись уже более чем в 38 городах России, еще в нескольких городах были заложены камни на месте предполагавшихся монументов [41].
В события, связанные с памятниками, вовлекалось большое количество людей — в торжественных мероприятиях у монументов принимали участие представители официальной и церковной власти, общественных и благотворительных организаций, представители учреждений культуры и искусства, а самой необычной церемонией стал «всероссийский авиаперелет» с мощами муромских чудотворцев [39]. При этом иконография монументов зачастую не отличалась оригинальностью и, в «лучших» традициях ленинской монументальной пропаганды, могла варьировать один и тот же образец (например, в Новосибирске, Архангельске, Сочи, Самаре, Благовещенске, Туле, Иркутске, Ярославле, Владивостоке, Ижевске, Екатеринбурге, Кирове были установлены почти идентичные произведения скульптора К. Чернявского). В то же время встречались и самобытные художественные образцы, например, памятник в Нижнем Тагиле, выполненный скульптором А. Ивановым в соавторстве с А. Мартыновым и А. Барахвостовым.
Одним из реальных итогов всех этой кампании явилась определенная узнаваемость имен Петра и Февронии Муромских, однако по-настоящему «народными героями» они так и не стали, а посвященные им памятники более соответствовали камерному типу городской скульптуры, нежели монументу с доминирующим в ландшафте характером.
По похожему сценарию, с открытием новых памятников, проходили мероприятия к 700-летию преподобного Сергия Радонежского, отмечавшегося в 2014 г. Их кульминацией стали торжества в Троице-Сергиевой Лавре 18 июля, в которых вместе с патриархом Кириллом принял участие президент России В. В. Путин, в своем выступлении обозначивший вектор развития страны на основе национального единения и сохранения вековых ценностей, в которых, по его словам, заключена «сила России, ее великое прошлое, настоящее и будущее [1].
Данное событие ярко продемонстрировало сложившийся «священный союз» государства и церкви ради общей благой цели. И другим подтверждением этого стал подписанный президентом немногим ранее — 14 июня 2014 г. — Указ о праздновании 800-летия со дня рождения Александра Невского, которое было намечено на 2021 г. [52].
Особая значимость образа святого благоверного князя Александра Невского в исторической и культурной памяти к сегодняшнему дню «приобрела характер аксиомы, общего места» [28, с. 98], а его скульптурные изображения известны с XVIII в. и устанавливались во все исторические эпохи, включая советскую. Среди многообразия монументальных воплощений образа благоверного князя встречались такие типы, как символический памятник-«часовня», образы «инок», «святой воин», однако самыми распространенными были художественные решения, представляющие Александра Невского в виде князя-воина, «где атрибуты его святости, за редким исключением, играют второстепенную роль» [28, с. 96], и в этом ряду чаще всего встречаются «скульптура в полный рост и бюст на постаменте» [67].
В настоящее время в России насчитываются десятки памятников святому Александру Невскому (их точное количество неизвестно), в течение всего юбилейного года их активно устанавливали в разных населенных местностях страны. В одном только городе Краснодаре имеется три памятника святому: первый бетонный бюст Александра
Невского был открыт в 2002 г. рядом с войсковым собором его имени; в 2011 г. в рамках проекта «Аллея российской славы» для него изготовили постамент с надписью; в 2020 г. у войскового собора была установлена также бронзовая скульптура в полный рост высотой 6,4 метра скульптора С. С. Исакова; 9 декабря 2021 г. в другой части города, у храма Рождества Христова, был открыт еще один бюст святого — бронзовый.
Памятниками Александру Невскому, но уже по-настоящему религиозными, служат также освященные в его честь многочисленные храмы — по данным интернет-портала «Храмы России», их 863 [4].
В целом можно сказать, что монумента-лизация образов святых до сих пор задействовала лишь внешнюю сторону православной религиозности, без внимания к ее сущности. При этом «активность по насаждению православных памятников» оказалась сравнима с ленинским планом монументальной пропаганды, а церковные ритуалы при светских монументах выглядели сомнительными: «…очень странно видеть, как памятники святым освящают. Словно этим действием можно придать скульптуре благодать и святость большую, чей образ она представляет… надо помнить, что язык должен быть адекватен теме и образу. Святые ждут молитвенной памяти, а не площадной славы» [68].
В этой связи выглядит небезосновательным существующий взгляд на «возрождение» религиозной традиции как на «создание традиции, которой до этого никогда не существовало… создание новой православной реальности, которая, однако, воспринимается как возврат к вековой традиции» [17]. Возможные последствия столь очевидно противоречивой монументальной деятельности, зачастую прямолинейно затрагивающей высшие религиозно-духовные сферы, и перспективы ее осуществления в дальнейшем на сегодняшний не ясны и в будущем требуют глубокого научного осмысления.
Тем не менее нельзя отрицать, что религиозное содержание, набор образов и смыслов к настоящему времени составили весомую компоненту современного российского монументального ландшафта, в материальных знаках и формах транслируя идеи устойчивости и непрерывности традиции в обстоятельствах глобальных трансформаций, затронувших все стороны человеческой деятельности.
Oksana N. MARKOVA
Religious Semantics in the Modern Monumental Landscape:
All-Russian and Regional Aspects
Список литературы Религиозная семантика в современном монументальном ландшафте: общероссийский и региональный аспекты
- 700-летие преподобного Сергия Радонежского [Электронный ресурс] // Президент России. 2014. 18 июля. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/46246 (дата обращения: 13.09.2021).
- Абашев В. В. Пермская монументальная риторика местной идентичности: памятники, эмблемы и арт-объекты в пространстве города // Лабиринт: журнал социально-гуманитарных исследований. № 1. 2014. С. 67–68.
- Аванесов С. С. Сакральная топика русского города (5). Собор и ворота // Праксема. Проблемы визуальной семиотики. 2018. № 1 (15). С. 70–92.
- Александра Невского храмы [Электронный ресурс] // Храмы России. URL: http://temples.ru/names.php?ID=145&RegionID=0 (дата обращения: 10.11.2021).
- Атанасов Г. Святой Георгий – пеший воин-змееборец: возникновение иконографии, памятники, семантика и распространение // Славяно-русское ювелирное дело и его истоки: материалы междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения Гали Федоровны Корзухиной. СПб.: Нестор-История, 2010. С. 330–343.
- Бабкин М. А. Священство и Царство (Россия, начало XX в. – 1918 г.). М.: Индрик, 2011.
- Бахарев Д. С., Главацкая Е. М. Развитие православного ландшафта в современном российском мегаполисе (на примере Екатеринбурга) // Религиоведение. 2017. № 4. С. 146–147.
- Бондарь В. В. Краснодар: судьба старого центра. К проблеме современного кризиса историко-архитектурного облика города. Краснодар: Издатель Игорь Платонов, 2007.
- Будкин В. Государство и религия на постсоветском пространстве // Кавказ и глобализация. 2007. Т. 1. № 5. С. 25–48.
- В Екатеринбурге готовят митинг против строительства храма на площади Труда [Электронный ресурс] // ИА REGNUM. 2010. 22 марта. URL: https://regnum.ru/news/society/1265304.html (дата обращения: 22.04.2021).
- Ваяние несродно духу чистого Православия: О памятниках и статуях святым угодникам Божиим [Электронный ресурс] // LiveJournal. 2016. 18 августа. URL: https://napravdestoy.livejournal.com/4237588.html (дата обращения: 22.04.2021).
- Власникова М. А. Сохранение памятников христианской культовой архитектуры европейской части Российской Федерации во второй половине XX – начале XXI века: автореф. дис. ... канд. культурологии. СПб., 2021.
- Волгоградцы начали борьбу со строительством собора Александра Невского [Электронный ресурс] // Волгоград онлайн. URL: https://v1.ru/text/gorod/2016/02/20/57147641/ (дата обращения: 22.04.2021).
- Восстановление Спасо-Преображенского собора в Твери [Электронный ресурс] // Тверская митрополия Русской Православной церкви. URL: https://tvereparhia.ru/news/vosstanovlenie-spaso-preobrazhenskogo-sobora-v-tveri/ (дата обращения: 17.05.2021).
- Вострышев М. Москва православная. Все храмы и часовни. М.: Алгоритм, 2012.
- Гуров М. Б. Государственная мемориальная культурная политика: к вопросу о сакральной коммеморации // Культурное наследие России. 2018. № 1. С. 54–60.
- Дианина Е. Возвращенное наследие: Николай II как новодел / пер. с англ. А. Е. Яковец // Новое литературное обозрение. 2018. № 1. С. 250–258.
- Дождевых С. М. «Симфония священства и царства»: семантические версии культовых памятников в архитектурно-пространственной среде г. Вятки конца ХІХ – начала ХХ в. // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 2011. № 1 (1). С. 147–152.
- Журин О. И. Казанский собор // Наука и жизнь. 1994. № 2. С. 2–5.
- История возрождения собора 2000–2006 гг. [Электронный ресурс] // Войсковой собор святого благоверного князя Александра Невского города Краснодара. URL: http://alexander-nevskiysobor.ru/category/%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%8c-%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b0/ (дата обращения: 11.08.2021).
- История главного храма Екатеринбурга – Собора святой великомученицы Екатерины [Электронный ресурс] // Екатеринбургская епархия. URL: http://ekaterinburg-eparhia.ru/news/2016/12/06/11816/ (дата обращения: 22.04.2021).
- История храма св. пророка Божия Илии [Электронный ресурс] // На горе.ru. URL: http://www.na-gore.ru/history3.htm (дата обращения: 15.07.2021).
- Казанский Богородицкий монастырь [Электронный ресурс] // Древо. Открытая православная энциклопедия. URL: https://drevo-info.ru/articles/13672116.html (дата обращения: 10.08.2021).
- Как боролись с памятником преподобному Сергию [Электронный ресурс] // Православие.ру. URL: https://pravoslavie.ru/549.html (дата обращения: 14.01.2021).
- Как открывали памятник преподобному Сергию Радонежскому в Сергиевом Посаде [Электронный ресурс] // Общественное движение «Памяти живая нить». URL: http://xn--80adlic3a0b6exa.xn--p1ai/index.php/istoriya-vov/15-glavnaya/1666-29-maya-1988-goda-pamyatnik-sergiyu-radonezhskomu (дата обращения: 14.01.2021).
- Кириченко Е. И. Храм и город. О содержательно-структурном единстве русского сакрального пространства // Иеротопия. Сравнительные исследования сакральных пространств. М.: Индрик, 2009. С. 285–315.
- Клемешов А. С. Памятники Александру Невскому // Александр Невский. Государь, дипломат, воин / отв. ред. А. В. Торкунов. М.: Р-Валент, 2010. С. 335–358.
- Костыря М. А., Соколов Р. А. Историческая память об Александре Невском: скульптурная визуализация // Праксема. Проблемы визуальной семиотики. 2021. № 1 (27). С. 95–123.
- Котломанов А. О. Монументальность новой русской скульптуры. Эпизод 1: памятник князю Владимиру // Вестник СПбГУ. Искусствоведение. 2017. Т. 7. Вып. 3. С. 342–359.
- Крестьянинов В. Идеи Ленина живут и побеждают в РПЦ [Электронный ресурс] // Аргументы Недели. 2013. № 45 (387). 21 ноября. URL: https://argumenti.ru/toptheme/n415/299794 (дата обращения: 22.04.2021).
- Крючкова О. Н. Формирование некоторых концептов постсоветской культуры (на примере восстановления храма Христа Спасителя в Москве (1994–2000 гг.)) // Вестник Московского ун-та. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2009. № 3. С. 59–65.
- Куликов А. Воссозданный собор Александра Невского открыли в Волгограде – фоторепортаж [Электронный ресурс] // ИА REGNUM. URL: https://regnum.ru/news/3374572.html (дата обращения: 17.05.2021).
- Лебедева Г. Е. Русские церковные историки о «симфонии священства и царства» в Византии // Ленинградский юридический журнал. 2008. № 4 (14). С. 107–118.
- Лотман Ю. М., Успенский Б. А. О семиотическом механизме культуры // Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб.: Искусство-СПБ, 2000. С. 485–503.
- Малеева Е. Н. Образ храма как образ власти. Государственный заказ в русской художественной культуре XIX века // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2008. № 61. С. 165–169.
- Мартынова А. Г. Возрожденная Ильинская церковь города Выборга. Храм в графике художников XIX–XX веков. Неизвестный рисунок Н. К. Рериха // Сельские храмы. Незабытое: труды междунар. науч.-практ. конф. Изборск: Изд. Государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск», 2019. С. 60–70.
- Нащокина М. В. Храмы-памятники русской воинской славы // Памятники Отечества. 1988. № 1 (17). С. 143–148.
- Никишин Г. Именем святых Космы и Дамиана. Милая, малая Родина [Электронный ресурс] // Проза.ру. URL: https://proza.ru/2011/03/15/1529 (дата обращения: 10.08.2021).
- Общенациональная программа «В кругу семьи» [Электронный ресурс]. URL: http://www.vkrugu7i.ru/project/skulpturi (дата обращения: 24.04.2021).
- Паламарчук П. Г. Москва в границах Садового кольца // Сорок сороков. Краткая иллюстрированная история всех Московских храмов. М.: Астраль, 2004. Т. 2.
- Памятники Петру и Февронии муромским в разных городах России [Электронный ресурс] // Владимирская область. 2013. 4 декабря. URL: http://book33.ru/uncategorized/pamyatniki-petru-i-fevronii-v-raznyx-gorodax-rossii.html (дата обращения: 24.03.2021).
- Пивоваров Д. В. Культура и религия: сакрализация базовых идеалов. М.; Екатеринбург: Юрайт, 2017.
- Постановление Президиума Государственного Совета Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики от 11 февраля 2000 года № 118/173 «О воссоздании Свято-Михайловского собора в городе Ижевске» [Электронный ресурс] // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. URL: https://docs.cntd.ru/document/960002532 (дата обращения: 17.05.2021).
- Распоряжение главы администрации Краснодарского края «О включении объекта культурного наследия “Войсковой собор святого благоверного Александра Невского” в единый государственный реестр объектов культурного наследия» от 10.11.2009 № 870-р [Электронный ресурс] // Администрация Краснодарского края. URL: https://admkrai.krasnodar.ru/content/1370/show/422169/(дата обращения: 11.08.2021).
- Савкина А. В. Понятие сакрального в условиях современного общества: автореф. дис. ... канд. филос. наук. М., 2012.
- Савкина А. В. Сакральное в современном искусстве // Система ценностей современного общества. 2011. № 20. С. 75–79.
- Сазонова Н. И. Визуальный образ православия и современная культура: к проблеме взаимодействия // Праксема. Проблема визуальной семиотики. 2014. № 1 (1). С. 78–87.
- Сазонова Н. И. Пространство религиозного культа и сакральная топика города: восточно-христианская традиция // Праксема. Проблема визуальной семиотики. 2018. № 1 (15). С. 93–119.
- Самара. Часовня Алексия, митрополита Московского (воссозданная) [Электронный ресурс] // Соборы-ру. URL: https://sobory.ru/article/?object=02521 (дата обращения: 15.07.2021).
- Святославский А. В. Традиция памяти в православии. М.: Древлехранилище, 2004.
- Спасский кафедральный собор. Благовещенская церковь. Часовня Всемилостивого Спаса [Электронный ресурс] // Русская Православная церковь. Московский патриархат. URL: пензенская-епархия.рф.храмы-и-монастыри/спасский-кафедральный-собор-благове/ (дата обращения: 17.05.2021).
- Указ о праздновании 800-летия со дня рождения Александра Невского от 14 июня 2014 г. [Электронный ресурс] // Президент России. 2014. 14 июня. URL: http://www.kremlin.ru/acts/news/46050 (дата обращения: 13.09.2021).
- Указ Президента Республики Татарстан от 04.11.2015 № УП-1066 «О создании Болгарской исламской академии и воссоздании Собора Казанской иконы Божьей Матери» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации (Государственная система правовой информации). 2015. 10 ноября. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1600201511100002 (дата обращения: 17.05.2021).
- Указ Президента Российской Федерации от 16.07.1992 г. № 785 «О создании Фонда возрождения Москвы». Приложение [Электронный ресурс] // Президент России. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/1683 (дата обращения: 10.09.2021).
- Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1995 г. № 447 «О воссоздании Храма Христа Спасителя в г. Москве» [Электронный ресурс] // Президент России. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/7829 (дата обращения: 10.08.2021).
- Успенский Л. А. Богословие иконы Православной Церкви. М.: Изд-во Западно-Европейского экзархата, Московский Патриархат, 1989.
- Федотова Н. Г. Визуальные носители культурной памяти города (на примере Великого Новгорода) // Праксема. Проблема визуальной семиотики. 2019. № 2 (20). С. 42–62.
- Фонд финансовой поддержки воссоздания Храма Христа Спасителя [Электронный ресурс] // Русская Православная Церковь. Кафедральный собор патриарха Московского и всея Руси. URL: http://www.grigory.ru/archiv/pro/2000_07_xxc/www/reconst/particip/ffp.htm (дата обращения: 10.09.2021).
- Фонтан «Каменный цветок» на площади Труда [Электронный ресурс] // Нескучная библиотека. URL: http://biblio-on-line.blogspot.com/2015/08/blog-post_40.html (дата обращения: 22.04.2021).
- Храм святой Екатерины собираются построить на острове в екатеринбургском городском пруду [Электронный ресурс] // Информационное агентство «Znak». URL: https://www.znak.com/2016-03-29/hram_svyatoy_ekateriny_sobirayutsya_postroit_na_ostrove_v_ekaterinburgskom_gorodskom_prudu (дата обращения: 22.04.2021).
- Храмы России [Электронный ресурс]. URL: http://temples.ru/ (дата обращения: 22.04.2021).
- Храм-часовня святого благоверного князя Александра Невского [Электронный ресурс] // Кубанское казачье войско [Официальный сайт]. URL: http://www.slavakubani.ru/content/detail.php?ID=1835 (дата обращения: 15.07.2021).
- Церковь Иоанна Предтечи в Волгограде – делимся знаниями [Электронный ресурс] // Православные святыни. URL: https://svjatyni.ru/hramy-i-tserkvi/cerkov-ioanna-predtechi-v-volgograde.html (дата обращения: 10.08.2021).
- Церковь Космы и Дамиана Ассийских в Думиничах [Электронный ресурс] // Храмы России. URL: http://temples.ru/card.php?ID=12508 (дата обращения: 10.08.2021).
- Часовня во имя Святителя Николая, Чудотворца г. Новосибирск, Красный проспект [Электронный ресурс] // Новосибирская епархия [Официальный сайт]. URL: http://orthedu.ru/nskeparh/eparhia/chasovni/chas.htm (дата обращения: 15.07.2021).
- Чубукова Д. Г. Памятники российского Крыма: символическое закрепление полуострова в составе России // Вестник РГГУ. Сер.: Литературоведение. Языкознание. Культурология. 2019. № 4. С. 95–116.
- Шадунц Е. К. Скульптурные образы Александра Невского в пространстве городов и памятных мест [Электронный ресурс] // Богослов. Научный богословский портал. 2021. 5 октября. URL: https://bogoslov.ru/article/6170561 (дата обращения: 15.10.2021).
- Языкова И. Нужны ли памятники святым? [Электронный ресурс] // Нескучный сад. 2012. 22 ноября. URL: http://www.nsad.ru/articles/nuzhny-li-pamyatniki-svyatym (дата обращения: 14.01.2021).
- Daniels S., Cosgrove D. Introduction: Iconography and Landscape // The Iconography of Landscape: Essays on the Symbolic Representation, Design and Use of Past Environments / ed. by S. Daniels, D. Cosgrove. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. P. 1–10.