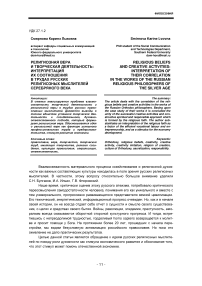Религиозная вера и творческая деятельность: интерпретация их соотношения в трудах русских религиозных мыслителей Серебряного века
Автор: Смирнова Каринэ Львовна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 3, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется проблема взаимосвязанности творческой деятельности и религиозной веры в трудах русских православных мыслителей. Делаются выводы о тесном единстве успешной творческой деятельности и созидательного, духовноответственного подхода, который формирует религиозная вера. Обосновывается идея о религиозной вере как факторе успешного профессионального труда и предпринимательства, стимуле развития экономики.
Православие, вера, творчество, творческий труд, имитация творчества, религия созидания, культура православия, сакрализация, ответственность
Короткий адрес: https://sciup.org/14940551
IDR: 14940551 | УДК: 27.1.2
Текст научной статьи Религиозная вера и творческая деятельность: интерпретация их соотношения в трудах русских религиозных мыслителей Серебряного века
Взаимосвязанность материального процесса хозяйствования и религиозной духовности как важных составляющих культуры находилась в поле зрения русских религиозных мыслителей. В частности, этому вопросу относительно большое внимание уделили С.Н. Булгаков, И.А. Ильин, Г.В. Флоровский.
Наше время, критически оценив эпоху русского атеизма, потребовало критического переосмысления самодостаточности человека, понимания его как уникального и вместе с тем универсального, прогрессивно развивающегося представителя земной цивилизации. Его технический, энергетический, информационный прогресс очевиден. Но, как и в начале своей истории, он не всегда отдает себе отчет о сущности и смысле своего существования, о целях и средствах своего бытия. Войны, революции, эпидемии, преступность, аморализм всегда оказываются оборотной стороной культурного прогресса. И тогда, встретившись с непреодолимой трудностью, горделивый homo sapiens возвращается к молитве и просит помощи у Бога. На протяжении более 20 лет, прошедших с начала перестройки, мы видим безусловную активизацию российского православия. Но пока это оживление не дало практических результатов.
Целью данной статьи является обращение к идеям русских религиозных мыслителей по поводу роли духовности как стимула экономического развития и обоснование того, что этот стимул может помочь отечественной экономике.
Так, С.Н. Булгаков рассматривал проблему творчества как важную составляющую теории прогресса. Свою статью «Основные проблемы теории прогресса» он начал с острой критики открытого О. Контом мнимого, как считал С.Н. Булгаков, закона о поступательном движении истории от теологии к метафизике и затем к позитивной науке.
«И религия, и метафизическое мышление, и положительное знание, – считал С.Н. Булгаков, – отвечают основным духовным потребностям человека, и их развитие может вести только к их взаимному прояснению, отнюдь не уничтожению. Потребности эти являются всеобщими для всех людей и во все времена их существования и составляют духовное начало в человеке в противоположность животному» [1, c. 2]. Научные и всякие другие точные знания не в состоянии дать ответа на все вопросы относительно реальности. Область незнания всегда остается гораздо больше того, что человек может знать. В конечном счете чем больше мы знаем, тем шире становится область незнаемого, проблемного, «знания о незнании».
От познания материальных причинно-следственных связей человек переходит к духовным. И здесь, как и в процессе познания материального мира, он получает всего лишь обрывочные знания о целостной реальности.
«Но человеку необходимо иметь целостное представление о мире, он не может согласиться ждать с удовлетворением этой потребности до тех пор, пока будущая наука даст достаточный материал для этой цели» [2, c. 3]. В результате религиозные вопросы неизменно выходят на первое место: «Для человека как разумного существа бесконечно важнее любой специальной научной теории представляется решение вопросов о том, что же представляет собою наш мир в целом, какова его субстанция, имеет ли он какой-либо смысл и разумную цель, имеет ли какую-либо цену наша жизнь и наши деяния, какова природа добра и зла и т. д., и т. д. Словом, человек спрашивает и не может не спрашивать не только как, но что, почему и зачем» [3, c. 3].
Пытаясь дать ответ на эти вопросы, представитель рода человеческого по сути дела занимается религиозными проблемами. Сам вопрос о сущности Бога оказывается учением о целостности мира и представлением о нем. И эти вопросы, по природе своей не имеющие ответа, не могут не интересовать всех.
«Нерелигиозных людей нет, – приходит к выводу С.Н. Булгаков, – а есть лишь люди благочестивые и нечестивые, праведники и грешники» [4, c. 4]. Другое дело, что такое заявление требует четкого определения религии. «Религия, – по мнению философа, – есть активный выход за пределы своего я, живое чувство связи этого конечного и ограниченного я с бесконечным и высшим, расширение нашего чувства в бесконечность в стремлении к недосягаемому совершенству» [5, c. 22]. Без религии культура деформируется, практически вырождается.
Для возврата деформированной культуры в нормальное для нее русло человек должен не просто довольствоваться стихийно сложившимися обстоятельствами, но сознательными усилиями добиться соразмерности всех взаимодействующих сфер культуры. То есть в процессе, кажется, автоматически осуществляемого прогресса целенаправленно реализовать его важнейшую составляющую в виде долженствования.
Таким образом, религия, с точки зрения С.Н. Булгакова, безусловно, является одной из важных сфер человеческой культуры, и, исходя именно из этого, необходимо определять ее место в развитии экономики, способы ее стимулирования, модернизации в обеспечении необходимого прогресса.
Жизнь отдельного индивида и всего человечества была бы абсолютно невозможной, если бы он свою, всегда слабую, подтвержденную отрывочными знаниями уверенность в правильности своих практических действий не поддерживал живой верой: «Мы уже знаем, что неустранимое и совершенно самостоятельное значение в человеческой жизни имеет вера. Только она делает несомненным то, что является сомнительным, как и всякий предмет человеческого знания, только она холодное теоретическое знание согревает жаром сердца и делает основой поведения, не только внешнего, но и внутреннего, не только поступков, но и чувств» [6, c. 36].
Отсюда вытекает, что религия не только не может когда-либо стать излишней для человека и человечества, выдумкой существа, затравленного непосильной борьбой за выживание и т. д., но является и всегда будет вдохновителем всех его свершений. «Религия – какова бы они ни была – по самой идее своей проникает всю деятельную жизнь сознательного человека. Все нравственные цели, которые он себе ставит, должны являться вместе с тем и предписаниями его религии» [7, c. 36].
Вера и религия – однопорядковые явления. В религии вера системна и аргументирована, в индивидуальном плане – стихийна и часто ничем не обоснована. Вера приходит тогда, когда индивиду отказано в твердой поддержке извне, и он вынужден находить ее в себе.
Выбор веры – нравственная задача, которую приходится решать каждому человеку. Упадок веры – серьезное препятствие для развития общества и его экономики. Любое сколько угодно мощное развитие знаний и культуры не может возместить упадка веры. Можно допустить, что человечество лишится своей науки, своей цивилизации, как оно и жило без них в течение веков. Но полная потеря веры в добро означала бы нравственную смерть, а значит, гибель человеческого общества и его культуры.
Еще более сильные аргументы в пользу не сопоставимой ни с чем продуктивности религии в стимулировании экономики С.Н. Булгаков высказал в своей основательной работе «Философия хозяйства». Он рассматривал экономику в качестве важной сферы культуры и не считал производство доминирующим и определяющим все другие «надстроечные» сферы. Они в его теории хозяйства не явились производными от материального базиса, как это изображено у К. Маркса. Однако он подчеркивал особое место экономики в культуре и, главное, в понимании сущности культуры. «Понять мир как объект трудового, хозяйственного воздействия, – считал он, – есть очередная ее задача, к которой одинаково ведет и экономизм, и критицизм, и прагматизм, и мистицизм. И самой постановке ее я придаю несравненно большее значение, нежели данному опыту ее разрешения» [8, c. 5].
Считая, что для решения любой проблемы, и тем более такой сложной, как исследование сущности хозяйства, самым важным является правильно ее поставить, мы должны разговор о мировом хозяйстве начинать с религии, тем самым подчеркивая их непосредственную связь. Выходит, что цель хозяйства сверххозяйственна, а цель истории сверхисторична. В таком случае и происхождение хозяйственного труда также лежит за пределами истории и хозяйства в теперешнем смысле. Этому последнему иерархически и космологически предшествует иное хозяйство, иной труд, свободный, бескорыстный, любовный, в котором хозяйство сливается с художественным творчеством. Это «хозяйство» Эдема, «райское» хозяйство, испытания которым не выдержал человек.
«Можно говорить в этом смысле о «райском хозяйстве» как о бескорыстном любовном труде человека над природой для ее познавания и усовершенствования, раскрытия ее софийности. Но после грехопадения человека, религиозно соответствующего метафизической катастрофе всего космоса, смысл хозяйства и его мотивы изменяются. Тяжелый покров хозяйственной нужды ложится на хозяйственную деятельность и закрывает ее софийное предназначение, целью хозяйства становится борьба за жизнь, а его естественной идеологией – экономический материализм. Оно становится исполнением суда
Божия над согрешившим человечеством: «В поте лица твоего будешь есть хлеб твой, доколе не возвратишься в землю, из которой взят» [9, c. 87].
Примерно в этом же ключе исследовал человеческую деятельность И.А. Ильин. Он считал, что мечты о чудесной и беззаботной, лишенной труда жизни характерны для тех, кто не знает радости творческого труда, кто не понимает сущности человека, утверждающегося в труде и тем самым выступающего носителем высшего смысла. «Тогда человек начинает чувствовать себя орудием высших сил и научается сдерживать свое дыхание, чтобы не сделать какого-нибудь своевольного, ложного шага; человек начинает опасаться за свое недостоинство; вступая в цепь предметных необходимостей и постигая их, он ликует в духовной радости; он сразу и счастлив, и смущен, и сердце его преисполнено благодарности...
А впоследствии человек смиренно шепчет про себя благодарственную молитву за то, что ему удалось «немножко увековечиться»; ибо поистине ничто не исчезает в мире бесследно, каждый труд «вплетается» или «врастает» в ткань мироздания, приемлется ею и органически питает и укрепляет ее... Пусть человек только трудится, вернопреданно и самозабвенно, в предметном направлении и не щадя своих сил... Остальное есть дело Божьего попечения и суда» [10, c. 320].
Творческий труд – это всегда труд поддерживаемый, поощряемый и вдохновляемый Богом. Так должно быть, но не всегда бывает так, как должно. «Люди не захотели больше веровать, потому что они уверили себя, будто вера есть противоразумное, научно несостоятельное и «реакционное» состояние души» [11, c. 290].
Отсюда следует настоятельная необходимость возврата к сердцу, любви, чувству, которые не противоречат расчету, но дополняют и укрепляют его.
На позициях нерасторжимого единства Человека и Бога стоял и Г.В. Флоровский. Он акцентировал внимание на своеобразии православного христианства, подчеркивая двойственность и расплывчатость его воздействия на русского человека. В результате формируются его типичные, негативные качества, которые проявляются в нерешительности, когда нужно сделать выбор, принять ответственность. В русской душе слишком много артистизма, игры.
У русских православных людей это выражается своеобразной безответственностью народного духа. «Изъян и слабость древнерусского духовного развитая, – писал Г.В. Флоровский, – состоит отчасти в недостаточности аскетического закала (и совсем уже не в чрезмерности аскетизма), в недостаточной «одухотворенности» души, в чрезмерной «душевности», или «поэтичности», в духовной неоформленности душевной стихии...» [12, c. 15].
Чтобы исправить сложившееся положение, необходимо совершенствовать ответственность, основанную на вере.
В виде итога анализа позиции русских религиозных философов по поводу возможности использовать православие в качестве стимула развития отечественной экономики, следует утверждать, что это не просто возможность, которая может быть использована, а необходимость, которая не может быть обойдена. Ими показано, что всякая удовлетворяющая разумную человеческую потребность деятельность, и в первую очередь экономическая деятельность, является священной, обязанной быть выполненной в духе высокого нравственного долженствования.
Кроме того, сравнительный анализ религиозных установок, предписываемых Старым заветом, на который опирается протестантизм, и Новым заветом, исповедуемым православием, или теорией справедливости, в общих положениях изложенной в Коране, показывает, что все священные книги примерно одинаково утверждают необходимость справедливости в производстве и в торговле. Успех применения религиозных установок для стимулирования экономики определяется не формой религии, а глубиной веры, отношением к ее требованиям представителей той или иной конфессии. Эти выводы о необходимости придания процессу осуществления экономической деятельности сакрального смысла, не потеряли своей актуальности и в настоящее время. Больше того, они настоятельно востребованы сложившимся положением дел в современной России. Дело за практикой.
Ссылки:
-
1. Булгаков С.Н. Основные проблемы теории прогресса // Проблемы идеализма. М., 1902. 413 с.
-
2. Там же.
-
3. Там же.
-
4. Там же.
-
5. Там же.
-
6. Там же.
-
7. Там же.
-
8. Булгаков С. Н. Философия хозяйства / отв. ред. О.А. Платонов. М., 2009. 464 с.
-
9. Там же.
-
10. Ильин И.А. Путь к очевидности. М., 1993. 403 с.
-
11. Там же.
-
12. Флоровский Г.В. Пути русского богословия / отв. ред. О.А. Платонов. М., 2009. 848 с.