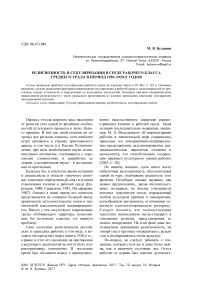Религиозность и секуляризация в среде рабочего класса Среднего Урала в период 1920-1930-х годов
Автор: Булавин Максим Викторович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 10 т.10, 2011 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме секуляризации рабочего класса на Среднем Урале в 20-30-е гг. ХХ в. Основное внимание уделено выявлению факторов развертывания секуляризации в рабочей среде и закономерностей ее протекания, оценке успешности и определению ее культурных последствий. Показаны причины воспроизводства православной религиозности у части уральского пролетариата в условиях проведения советским государством антицерковной политики.
Православие, русская православная церковь, религиозность, секуляризация, атеизм
Короткий адрес: https://sciup.org/14737399
IDR: 14737399 | УДК: 94(47).084
Текст научной статьи Религиозность и секуляризация в среде рабочего класса Среднего Урала в период 1920-1930-х годов
Процесс отхода широких масс населения от религии стал одной из ярчайших особенностей культурного процесса в эпоху Нового времени. В той или иной степени он затронул все регионы планеты, хотя наиболее остро проявился в странах христианского ареала, в том числе и в России. Религиоведение, при всем свойственном науке познавательном оптимизме, сталкивается с серьезными сложностями в разработке ее теории, а историческая наука – в исследовании ее протекания.
Казалось бы, в советское время историки и специалисты в области «научного атеизма» накопили определенный опыт изучения становления атеизма в рабочей среде [Воронцов, 1980; Сапрыкин, 1981; Музафарова, 1987]. Однако в наше время его ценность представляется не слишком большой ввиду архаичности методологических основ и значительной идеологической ангажированности. Вместе с тем отсутствуют современные труды обобщающего характера, позволившие бы по-новому осветить эту важную проблему.
Само состояние религиозности российских и уральских рабочих в том виде, в котором оно предстает перед нами в 1920-е гг., а равно и итог его эволюции на протяжении следующего десятилетия не могут быть охарактеризованы однозначно. В последнее время был обозначен вывод о преимущест- венно насильственном характере распространения атеизма в рабочей среде. Такая позиция последовательно выражена, например, М. А. Фельдманом: «В мировоззрении рабочих в значительной мере сохранились присущие им консервативно-патриархальные представления, актуализировались традиционалистские парадигмы сознания и менталитета, что способствовало сохранению прежнего культурного уровня рабочих [2003. С. 20].
По нашему мнению, здесь имеет место избыточная категоричность, абсолютизация одной из черт, отличавших реальность того времени. Подобные оценки вызваны, как можно предположить, двумя обстоятельствами: во-первых, не вполне учитывается контекст документов эпохи, порожденный особой культурой критики и самокритики, своеобразным ригоризмом, отличавшим советскую идеологизированную риторику. Следует помнить, что господствующая идеология исповедовала «нуль-стандарт» в отношении религии, предусматривая ее полное искоренение. На этом фоне даже малозаметные проявления религиозности, не говоря уже о крупных «пережитках», резали глаз и подчеркивались очень выпукло.
Во-вторых, не следует забывать о тенденции, которая столь же и даже более важна, как и наличное состояние дел. Отход рабочих от церкви был замечен духовенст-
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2011. Том 10, выпуск 10: История © М. В. Булавин, 2011
вом уже в 80–90-е гг. XIX в., хотя и объяснялся «щадяще» для нее – большой загруженностью пролетариата на фабриках и заводах [Аптекман, 1973. С. 5]. Совершенно недостоверным было бы предположение, что данная тенденция оказалась прерванной 1917 годом.
Тезис о непрестанно совершающемся и далеко зашедшем отходе рабочих от церкви уже в 1920-е гг. был широко признан как официальными органами, так и самими православными священнослужителями. При этом отмечалось, что фактически порывали с церковью и рабочие средних лет, а не только молодежь 1. Можно увидеть некоторое преувеличение и излишнюю эмоциональность в нижеследующих словах одного из благочинных Свердловской епархии, но они хорошо показывают восприятие хотя бы частью духовенства меры разрыва уральского пролетариата с православием: «Заводской рабочий – первый безбожник, он и бога не боится, и людей не стыдится. Я не говорю о молодежи, она для церкви потеряна безвозвратно, ибо в настоящее время воздействие пастырей на них невозможно, а родительское очень слабое» 2.
Еще больше было индифферентных людей, которых вопросы веры не интересовали никак. Их количество быстро увеличивалось, несмотря на то, что среди них далеко не всегда велась антирелигиозная пропаганда. Это явление отмечалось, например, в одном из рапортов Кунгурского окротдела ГПУ: «Культурно-просветительная политическая жизнь среди рабочих абсолютно не ведется <…>. Религиозное настроение рабочих, несмотря на благоприятные для него условия <…> все же быстро разлагается, и рабочие смотрят на религию пассивно» 3.
Точно так же как и в деревне, подрыв религиозных устоев происходил параллельно распаду традиционного мировоззрения в целом и, в определенной мере, являлся лишь одним из его аспектов. Разрушение традиционных принципов, норм, привычек не было равнозначно распространению официального атеизма. Первоначально духовный вакуум заполнялся мировоззренческим и нравственным хаосом, психологией «внутреннего варвара». В Перми, например, на
Пасху 1925 г., по сведениям чекистов, имело место настоящее побоище: «В результате всего праздника пьяной молодежью масса изрезана прохожей публики ножами, как, например, братья Оборины напали на проходящего сотрудника окрмилиции и изранили, нанеся последнему пять ран ножом <…>. За все время праздника было доставлено в Окрбольницу израненных в связи с пьянством около 60 человек из разных мест города». В рабочем пригороде Перми Мотовилихе число пострадавших было еще больше: двое убитых и около ста раненых Сердобольные граждане в Мотовилихе прятали (!) работников милиции по дворам, чтобы уберечь их от хулиганов 4.
Церковь, разумеется, оказалась одной из главных мишеней хулиганствующей рабочей молодежи. Именно в 1920-е гг. зародилась традиция дежурства милиции в храмах в дни крупных церковных праздников, и вызвано это было, как, впрочем, и позднее, во второй половине ХХ в., не столько стремлением властей как-то контролировать приходскую жизнь или ограничить наплыв в храмы публики, сколько необходимостью предотвращения хулиганских выходок в месте массового скопления народа. Приходские советы сами обращались в местные исполкомы с просьбами о выделении милицейских нарядов 5.
Погромные настроения, традиционный для пролетариата антиклерикализм, экстремистские наклонности рабочей молодежи на рубеже 1920–1930-х гг. стали той гремучей смесью, которая, наряду с официальной политикой, способствовала самому интенсивному с 1917 г. закрытию храмов. Масштабы активности масс, проявленной, правда, в весьма специфической форме, намного превзошли тогда все самые смелые ожидания властей. В разных регионах СССР группы рабочих, преимущественно молодых, добивались ликвидации храмов с таким упорством и озлобленностью против церкви, что вызывали удивление функционеров СВБ и работников партийно-советского аппарата. В некоторых документах того периода по данному поводу говорилось: «Мы имеем случаи закрытия церквей, несмотря на наши попытки их удержать» 6.
Однако все перечисленное выше не означает, что православной религии нигде и ни при каких обстоятельствах не удавалось сохранять свое влияние на рабочих. Напротив, целый ряд факторов приводил к замедлению темпов секуляризации, воспроизводству религиозных традиций.
Отметим, прежде всего, существование на Среднем Урале многочисленного слоя рабочих, который был связан с сельским хозяйством и образ жизни которого в некоторых отношения был схож с крестьянским. Он был представлен не только в малых городах и заводских поселках, но весьма заметен был и в крупных индустриальных центрах. Особенно выделялись в этом отношении небольшие населенные пункты. Там, где «домашний быт рабочих», как подчеркивали работники ГПУ, «мало отличался от жизни крестьян», они вполне могли находиться под влиянием «религиозного фанатизма» 7. Воздействие урбанизации, разрушающее связи с религиозными институтами, должно было проявляться в таких условиях существенно слабее.
Семьи коренных, потомственных рабочих отличало наличие особого домашнего уклада с чертами патриархальности. При этом значительную роль в его поддержании играли не рабочие-мужчины, которые как раз неизбежно должны были попадать под влияние секуляризации, а женская часть семьи, значительно более оторванная от общественной жизни и производства, тратившая основное время на домашнее хозяйство, ведшая его почти «по-деревенски». Рассмотрим, к примеру, состав прихода Вый-ско-Никольской церкви г. Нижнего Тагила, примечательной в том отношении, что ее церковный совет (случай крайне редкий, если не исключительный) во второй половине 1920-х гг. вел списки прихожан примерно так, как это требовалось законодательством – без крупных приписок и включения «мертвых душ». Из 201 человека, записавшегося в список прихожан в 1927 г., 143 являлись женщинами-домохозяйками, проживавшими в своих домах, в основном пожилыми: 66 % процентов их них имели возраст 50 и более лет, что по меркам того времени было старостью 8. Представляется, что именно этот слой «хра- нительниц очага» играл основную роль в сохранении православных бытовых традиций семьи, оказывая, в свою очередь, воздействие и на мужчин.
На фоне ослабления позиций религии и религиозных институтов в стране в целом, постепенного усиления давления государства на религиозные организации формировалась своеобразная субкультура части рабочих Среднего Урала, которая включала в себя в качестве одного из компонентов периодическое обращение к церковным обрядам. Семейные традиции, воспроизводившиеся на протяжении десятков лет, определяли крещение детей, отпевание умерших, ношение нательных крестов, а для пожилых – периодическое посещение храма. Автор лично наблюдал имеющие давнюю историю проявления бытовой религиозности в семьях потомственных рабочих старых районов Нижнего Тагила.
Безусловно, этот феномен объясняется в первую очередь фрагментарным характером модернизации, пережитой этой группой населения на протяжении XIX–XX вв., более заметны в сравнении с остальной массой горожан традиционалистским субстратом в ее сознании. Черты патриархальности, наблюдавшиеся в бытовом укладе старых рабочих Урала, определили схожесть некоторых проявлений их религиозности с теми, которые демонстрировались крестьянством. Прежде всего, бросаются в глаза общие черты в традициях праздничной культуры. Самым естественным делом многие рабочие полагали невыход на завод в дни крупных церковных торжеств. Однако если крестьянин в 1920-е гг. волен был сам распоряжаться своим временем, то рабочий находился в зависимости от распорядка труда, принятого на производстве. Положение дел усугублялось тем обстоятельством, что даже в то время, когда церковные праздники еще оставались признанными советским государством выходными днями (до 1927 г.), они привязывались к новому, григорианскому, календарному стилю, признававшемуся только обновленцами. Следовательно, рабочий, отмечающий праздник традиционным образом и в полном объеме, неизбежно должен был совершать прогул.
На всех предприятиях региона отмечалось увеличение количества прогулов в дни церковных торжеств. Например, в конце 1920-х гг. процент неявки на работу рабочих горнодобывающей отрасли доходил до 11,4 % при обычном 2,5 % 9. На Свердловской «Монетке» по отдельным цехам число прогулов в Рождество вдвое превышало обычную норму 10.
При осмыслении проблемы праздничных прогулов 1920-х – начала 1930-х гг. следует, как нам представляется, избегать соблазна их трактовки в качестве низового сопротивления внутренней политике властей в религиозном вопросе и, тем более, сознательного православного исповедничества. Перед нами, скорее, примеры несформированности производственной культуры, что неудивительно в свете известных особенностей, присущих российской модернизации. Сам образ празднования в городской рабочей среде мало соответствовал церковным представлениям о встрече торжественных дней, скорее напоминая языческие «пьянство и подобие же сему», осужденные еще Стоглавом.
Потребление спиртных напитков в это время резко возрастало, что в 1920-е гг. фиксировалось работниками ГПУ. В Верх-не-Камске на пасху 1925 г. «кооператив распродал всю водку, все пиво и почти все сорта вина, кроме того, домашнее пиво, брага, изюминка и пр. были также в полном ходу» 11. В Надеждинске в пасхальные дни 1932 г. «пьянство было настолько сильно развито, что две автомашины беспрерывно работали на развоз пьяных от дворца культуры и парка и за 10 дней мая оказалось убитыми 10 человек и ранено около 30 человек 12.
Представление о религиозном празднике как времени обязательного разгула было настолько сильно распространено, что одним из важных пунктов в содержании пропаганды безбожников были призывы отказаться от пьянства в эти дни. На Рождество 1929 г. в Свердловске ими была организована детская демонстрация под лозунгом: «Родители, не пейте и не гуляйте в рождество!». Некоторые рабочие, отказываясь посещать антирелигиозные мероприятия, мотивировали это так: «Да что идти? Знаем наперед, о чем говорить будут. Каждый год призывают в рождество не пьянствовать» 13.
Таким образом, мы сталкиваемся не с примерами глубоко осознанного религиозно мотивированного поведения, а с проявлениями бытовых традиций, которые весьма условно можно относить к религиозным практикам. Эти традиции были хорошо представлены в слое старых потомственных рабочих и, по всей видимости, были поддержаны за счет вливания в ряды пролетариата многочисленных выходцев из деревни с ее обычаем отмечать православные праздники широко и подолгу. В течение 1930-х гг. в процессе укрепления трудовой дисциплины, достигавшегося за счет применения весьма жестких методов, обычай «вольных гуляний» в церковные праздничные дни полностью исчез. Во второй половине 1930-х гг. лишь отдельные работники позволяли церковному календарю влиять на их производственную деятельность. Некоторые женщины, например, обменивались сменами, чтобы иметь возможность в праздничный день сходить в храм 14. Но такие случаи не могли иметь массового характера.
Помимо специфики, касающейся состава рабочего населения городов Среднего Урала, связи рабочих с православием сохранялись и в силу совершенно недостаточных возможностей социально-культурной системы. Имеющиеся учреждения культуры даже в крупных городах сплошь и рядом не могли похвастаться ни привлекательностью, ни высоким уровнем обслуживания населения. Например, клуб им. Ленина, находившийся в центре Перми, поражал неустроенностью и запущенностью своих помещений 15. Поэтому сравнение с православным храмом далеко не всегда заканчивалось для публики в пользу учреждений культуры. Вот описывали безбожники пасхальную ночь в Верх-Исетском заводе (Свердловск): «Церковь иллюминирована, пускают фейерверки, а в клубе грязь, темнота, хулиганство. И совершенно естественно – куда пойдет рабочий, даже будучи не религиозно настроенным? Мы подошли к клубу, и когда начали в церкви пускать фейерверки, мы увидели, что вся публика из клуба повалила в церковь» 16.
Таким образом, воспроизводство бытовой религиозности в среде уральского рабо- чего класса было тесно связано с рядом условий, каждое из которых по мере времени утрачивало свою значимость. Происходил рост числа рабочих, обеспечивавшийся миграцией из деревни. Несмотря на большую традиционность крестьянского мировоззрения, этот процесс приводил к маргинализации сознания рабочего класса и, соответственно, кризису всех традиционных устоев жизни, в том числе и религиозных.
Происходил рост сети учреждений культуры. В 1936 г. Свердловская область располагала 20 стационарными и 34 передвижными театрами, 8 стационарными и 24 передвижными цирками. Население обслуживала 1 тыс. киноустановок, из которых 211 были звуковыми 17. В 1930-е гг. сокращались возможности посещения храмов даже там, где они продолжили функционирование. Плотный трудовой график, усиление борьбы с прогулами, введение шестидневной рабочей недели без фиксированного выходного дня – все это не способствовало удобству для работающих прихожан.
Таким образом, определяя состояние религиозности рабочего класса Среднего Урала в период 1920–1930-х гг., мы наблюдаем двойственную картину. Процесс секуляризации в среде уральских рабочих был еще далек от полного завершения. Однако целый ряд факторов, определявших социокультурное развитие страны и региона, вызвал их заметный отток от церкви и превратил в наиболее секуляризованный слой общества. Масштабы этого сдвига таковы, что позволяют уверенно делать выводы о качественных подвижках в сфере секуляризации на протяжении двух первых десятилетий советского периода.
RELIGIOUSNESS AND SECULARIZATION AMONG THE WORKING CLASS IN THE MIDDLE URALS IN 1920–1930s