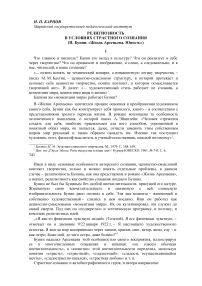Религиозность в условиях страстного сознания (И. Бунин. «Жизнь Арсеньева. Юность»)
Автор: Карпов И.П.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: т.3, 1994 года.
Бесплатный доступ
На материале «Жизни Арсеньева» прослежено, как страстное сознание в художественном мире И. Бунина изменяет традиционную религиозность. Характер данной трансформации определяется синтезом язычества, буддийских идей и русского православия.
И. бунин, страстное сознание, православие, язычество, буддизм, художественный мир
Короткий адрес: https://sciup.org/14749087
IDR: 14749087
Текст научной статьи Религиозность в условиях страстного сознания (И. Бунин. «Жизнь Арсеньева. Юность»)
Что главное в писателе? Каков его вклад в культуру? Что он реализует в себе через творчество? Что он привносит в изображение, в слово, а следовательно, и в нас, читателей, в наше сознание?
«... нужно понять не технический аппарат, а имманентную логику творчества, ‒ писал М. М. Бахтин, ‒ ценностно-смысловую структуру, в которой протекает и осознает себя ценностно творчество, понять контекст, в котором осмысливается творческий акт». И далее: «... художественный стиль работает не словами, а моментами мира, ценностями мира и жизни»1.
Какими же «моментами мира» работает Бунин?
В «Жизни Арсеньева» запечатлен процесс освоения и преображения художником самого себя. Бунин как бы конструирует себя прошлого, юного ‒ в соответствии с представлениями зрелого периода жизни. В романе воплощена та особенность человеческого мышления, о которой писал А. Эйнштейн: «Человек стремится создать для себя, наиболее приемлемым для него способом, упрощенный и понятный образ мира, он пытается, далее, отчасти заменить этим собственным миром мир реальный и таким образом овладеть им. Именно так поступают художник, поэт, философ-мыслитель и ученый-естественник, каждый по-своему»2.
‒ на предметно-природный мир. Отсюда целые страницы романа ‒ описания предметов, природы, города, усадьбы, людей;
‒ на женщин. В романе прослеживается формирование влечения героя к женщинам, реализация его внутренней установки: «видеть и любить весь мир, всю землю, всех Наташ и Марьянок»4;
‒ на творчество («сладострастие воображения»). Бунина интересует личностная основа творчества. С особенностями своей натуры он согласует свою эстетическую программу: точное описание предметного, видимого мира, без идейной тенденциозности. Действительность воплощается в слово только в той ее части, которая соответствует характеру, темпераменту автора ‒ его наблюдательности, впечатлительности;
‒ на самого себя. Рефлексия героя пронизывает все повествование, роман в то же время является рефлексией автора.
-
3 Бунин И. Лишь слову жизнь дана... М., 1990. С. 132.
-
4 Бунин И. А. Собр. соч.: В 6 т. М., 1987-1988. Т. 5. С. 137. Далее цитирую по этому изданию с указанием в тексте тома и страниц.
Интенциальное содержание авторского сознания окрашено определенным эмоциональным комплексом, для которого характерны резкие переходы от радости восторга, наслаждения ‒ к страданию, тоске, одиночеству, отчаянию.
Данное сознание эгоцентрично: весь мир поворачивается в сторону своей страстности. Мир как мое переживание, как мое наслаждение и моя мука ‒ такова экзистенциальная основа сознания Бунина.
Каким образом такое сознание могло следовать той религиозной, христианской православной традиции, в которой оно реально существовало?
Могло ли бунинское сознание впитать в себя и принять христианство, в котором страсть ‒ «болезнь, недуг, страдание, а в отношении к душе ‒ необузданное влечение ко греху, сладострастие», «напасть, бедствие, скорбь»5.
Преподобный Иоанн писал о том, что три страсти человек должен преодолеть: объядение, сребролюбие и тщеславие. Кто победит их, тот сможет преодолеть и остальные пять: блуд, гнев, печаль, уныние, гордость. Всякий грех проникает в душу через прилог («помысел о вещи») и сочетание (душа уже как бы беседует с предметом). Страсть определяется Преподобным Иоанном как «самый порок, от долгого времени вгнездившийся в душе, и чрез навык сделавшийся как бы природным ее свойством, так что душа уже произвольно и сама собою к нему стремится»6. Как предохраниться от прилога: обуздывать ‒ очи, уши, обоняние вкус, избегать касания телес...
Уже из этих положений видно, что следовать им означало для Бунина отказаться от себя. Не обуздание, но максимально полное выражение себя ‒ к этому стремится автобиографический герой, повторяя вслед Гете: всякое искусство чувственно (5 236).
Бунинские жизнелюбие, страстность и, как следствие этого, ‒ плотскость повествования позволяют говорить о «языческой стихии» писателя, о том, что «натуре Бунина присуще было в высокой степени нечто языческое: чувство слиянности с природой, с вещественным, телесным миром и страстный протест
М., 1991.
-
6 Преподобный Иоанн. Лествица. Греция, 1990. С. 187, 139.
против неизбежности смерти, конца «земного» существования, гибели „я”»7.
Страстное отношение к миру Арсеньева постоянно оборачивается страданием стремлением ко все новым и новым ощущениям, перемене мест, женщин. Отсюда сложное переплетение в романе двух эмоциональных начал: причастности героя к великому, Вечному ‒ ощущение своей избранности, отдельности от людей и связь с землей, материальным миром ‒ чувство родства с людьми, горечи при мысли о неизбежном расставании с этим миром.
Чтобы как-то овладеть, понять, оправдать эту часть своего «я», Бунин прибегает к буддийским идеям.
Первая глава романа ‒ изощренная смесь русского, христианского слова и буддийских понятий. С одной стороны, Духов день, церковь (конечно, православная), небесный град, молитва, пращуры, цитаты в церковно-славянском стилистическом варианте. С другой, целая программа буддийской направленности:
«Исповедовали наши древнейшие пращуры учение «о чистом, непрерывном пути Отца всякой жизни», переходящего от смертных родителей к смертным чадам их ‒ жизнью бессмертной, «непрерывной», веру в то, что это волей Агни заповедано блюсти чистоту, непрерывность крови, породы, дабы не был «осквернен», то есть прерван этот «путь», и что с каждым рождением должна все более очищаться кровь рождающихся и возрастать их родство, близость с ним, единым Отцом всего сущего» (5, 8).
Начало романа напоминает тональность преданий о Будде Гаутаме, встретившемся с несчастьями, болезнью, смертью. Так Бунин утверждает идеи о переселении душ, о конечном слиянии достигшей совершенства души с «Отцом всего сущего» ‒ вполне в духе ведийской религии древних обитателей Цейлона и индусов8.
В жизни Арсеньева этих идей не было. Он рос в православной среде. Зрелый Бунин окрашивает повествование «азиатско-буддийскими оттенками» (Б. Зайцев), вырабатывая из разных религий свою собственную религиозную теорию, которая соответствовала бы его страстной натуре.
В работе «Освобождение Толстого» Бунин высказывается более определенно:
«Некоторый род людей обладает способностью особенно сильно чувствовать не только свое время, но и чужое, прошлое,
Однако жизнь Арсеньева проходит в кругу православных обрядов, богослужений, верований, описание чего составляет значительную часть романа. И здесь мы встречаемся с той же личностной трансформацией, авторской тенденциозностью.
Несколько раз Арсеньев посещает храмы, богослужения. Литургия ‒ центр христианской жизни, это говение, исповедь, молитва, раскаяние, принятие Святых Христовых Тайн. Бунин отдает предпочтение вечерне. Главная церковная служба ‒ литургия ‒ описывается только один раз, причем в «заземленном» варианте. Отрок Арсеньев устал от длительности службы, от многолюдности. Но, думается, дело не в этом. Духовный смысл литургии несовместим с духовной ориентацией автора, с теми чувствами, которые приписывает автор своему герою.
В храм Божий верующий человек идет каяться в грехах, просить милости Божией В нравственном мире Арсеньева греха, вины перед людьми (хотя бы перед Ликой) нет. Отсутствие чувства греха диктует герою определенную последовательность мыслей и чувств в сложных ситуациях, автору ‒ определенный способ мотивации поступков героя. В конкретных случаях Арсеньев всегда самооправдывается, с его точки зрения, он достоин прощения за муки, испытанные им после совершения проступка. Такова, например, мотивация в эпизоде убийства грача. «Убийство впервые в жизни содеянное мною тогда, оказалось для меня целым событием, я несколько дней после того ходил сам не свой, втайне моля не только Бога, но и весь мир простить мне мой великий и подлый грех ради моих великих душевных мук» (5 30). В данном случае мы имеем дело, 345
пожалуй, с единственным в романе упоминанием понятия «грех», который мыслится быть прощенным «ради моих великих душевных мук». Эпизод убийства грача относится к детской поре жизни героя. Позже взрослый Арсеньев, влюбленный в женщину, скажет: «Мне казалось, что я так люблю ее, что мне все можно, все простительно» (5, 233).
Если нет чувства греха, то нет и чувства вины, а значит, раскаяния, покаяния, нет страха перед смертью в ее христианском понимании, как у Арсеньева.
Всенощное бдение пленяет его красотой обряда, т. е. эстетическим моментом «Всю службу стою я зачарованный», «мысленно упиваюсь видением какого-то мистического заката», молитвы воспринимаются героем как «страстно-горестные и счастливые троекратные рыдания в сердце». Соблазн ‒ так называются в православном христианстве испытываемые героем душевные состояния.
Церковная служба ‒ как мое эстетическое переживание, наслаждение, как реализация моей впечатлительности (в конечном счете ‒ страстности) ‒ таково основное содержание эпизодов романа, посвященных изображению предстояния героя перед иконами.
Однако храм, церковь ‒ неотъемлемая часть истории страны, народа, русского пейзажа, всего русского быта. И такой аспект изображения церквей присутствует в романе. «Я глядел, и опять слезы навертывались мне на глаза ‒ от неудержимо поднимавшегося в груди сладкого и скорбного чувства Родины, России, всей ее темной древности» (5, 211).
Дневники Бунина полны записей о посещении храмов, монастырей. Например, с первого по четвертое января 1915 года Бунин побывал в Марфо-Мариинской обители, на Ваганьковском кладбище, в Благовещенском соборе, Зачатьевском монастыре, Троице-Сергиевой Лавре, посетил Скит у Черниговской Божией Матери Впечатления таковы: «Церковь снаружи лучше, чем внутри», «Потом видели безобразно разукрашенную церковь», «долго сидели в Благовещенском соборе Изумительно хорошо. Слушали часть всенощной в Архангельском. Заехали в
Зачатьевский монастырь. Опять восхищали меня стихири. В Чудове, однако лучше», «Лавра внушительна, внутри тяжело и вульгарно», «Поп выделывал голосом разные штуки» (6, 354-355). Это сторонний собственно церковной жизни взгляд. Не я в вере, а вера ‒ как часть моего эстетического «я».
Свое собственное трагическое восприятие жизни Бунин перенес и на русскую историю, и на русскую церковь: «Все в нас мрачно. Говорят о нашей светлой, радостной религии... ложь, ничто так не темно, страшно, жестоко, как наша религия. 346
Вспомните эти черные образы, страшные руки, ноги... А стояния по восемь часов, а ночные службы... Нет, не говорите мне о «светлой» милосердной религии...»9.
Арсеньев-отрок читал жития святых, Арсеньев-юноша молится перед иконой Божией Матери, но вера не становится важным моментом его жизни. Нигде в романе не показана вера как действующая нравственная сила, которая бы руководила героем. Взрослый же Бунин сочиняет для себя комплекс религиозных идей, создает «упрощенный и понятный» образ своего внутреннего мира. Страстное сознание изменяет традиционную религию. Характер этой трансформации в «Жизни Арсеньева» И. Бунина определяется синтезом языческой стихии, индуистско-буддийских идей и христианской основы русского православного бытия.
Список литературы Религиозность в условиях страстного сознания (И. Бунин. «Жизнь Арсеньева. Юность»)
- Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 168, 169.
- Д'Арси Эйман. Роль искусства в наши дни//Курьер ЮНЕСКО. 1961. № 7-8. С. 6.
- Бунин И. Лишь слову жизнь дана.. М., 1990. С. 132.
- Бунин И. А. Собр. соч.: В 6 т. М., 1987-1988. Т. 5. С. 137.
- Церковно-славянский словарь. Протоиерея А. Свирелина. М.; Пг., 1916. ‒ Репринтное издание. М., 1991.
- Преподобный Иоанн. Лествица. Греция, 1990. С. 187, 139.
- //Бунин И. А. Собр. соч.: В 6 т. Т. 6. С. 637.
- История религий/А. Ельчанинов, В. Эрн, П. Флоренский, С. Булгаков. М., 1909. ‒ Репринтное издание. М., 1991.
- Кузнецова Г. Грасский дневник//Знамя. 1990. № 4. С. 179.