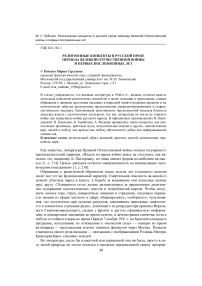Религиозные концепты в русской прозе периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет
Автор: Руденко Мария Сергеевна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Концепты в литературе
Статья в выпуске: 2, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье утверждается, что военная литература в 1940-е гг., являясь голосом власти, допускала появление религиозных концептов в целях агитации и пропаганды, однако обращение к древним архетипам вызывает в народной памяти недавнее прошлое и не окончательно забытые религиозные представления, репрезентироваванные в соцреалистическом дискурсе. Канонизация христианских представлений показала близость дискурса власти с религиозным дискурсом, так как литература не могла не отразить войну как священную войну русского народа. В официозных произведениях В. Василевской, П. Павленко, Б. Горбатова, А. Фадеева проявились такие концепты, как апостольская проповедь, крёстные муки, искупительная жертва и другие, запечатлевшие веру людей в победу над врагом как победу абсолютного добра над инфернальными силами зла.
Религиозный, образ, военный, архетип, святой, канонизация, проповедь, вера
Короткий адрес: https://sciup.org/148316598
IDR: 148316598 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи Религиозные концепты в русской прозе периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет
Как известно, литература Великой Отечественной войны носила подчеркнуто пропагандистский характер. «Власть во время войны вовсе не отступает, как казалось это, например, Б. Пастернаку, но лишь меняет формы воздействия на массы» [1, с. 214]. Целью дискурса остается «направленность на манипуляцию человеческим поведением» [1, с. 216].
Обращение к религиозной образности после долгих лет тотального атеизма носит все тот же функциональный характер. Смертельная опасность на какой-то момент сблизила народ и власть: в борьбе за выживание они оказались нужны друг другу. Сближаются столь далеко разошедшиеся за предвоенные десятилетия содержание идеологических текстов и потребностей народа. Чтобы заглушить личное горе, страх, невероятные лишения и страдания, следовало перенести эмоции из сферы частного в сферу общенародного, «соборного», чувствования, что достигалось при помощи ритуалов, заменявших церковные «аналоги»: это и совместное слушание радио, доносящего из репродуктора приказы Верховного Главнокомандующего, сводки с фронта и другую официальную информацию, и всенародное ликование во время салюта, и демонстрация единства, воли к победе и стойкости веры во время Парада 7 ноября 1941 г. на Красной площади и презрение, негодование по отношению к «нечистой силе» — немцам во время антипарада — прохождения колонн пленных фашистов через Москву. Плакаты становятся своего рода иконами — святынями с изображениями Родины-Матери, Красоармейцем, «ликами» вождей.
Но литература, сколь бы плакатной или сервильной она ни была, просто в силу своей природы не могла остаться в пределах предписанной сверху програм- 39
мы: сила потрясения вернула народную массу не только к историческим корням, но и к древним архетипам — религиозным и даже дорелигиозным, родовым. Кроме того, был создан целый ряд новых мифов: уже в первые месяцы войны был мифологизирован день 22 июня 1941 г. как символ и кульминация невероятного, безоблачного и, что особенно существенно, устремленного в будущее, атеистический рай, довоенного счастья (сцены выпускного вечера, объяснения в любви, свадьбы, семейного события). Возникали и гибридные формы, причудливо соединявшие советскую и религиозную мифологию, политизированную историю России и православие, как это происходит в поэме А. Недогонова «Слово о русском воине Авдее, сыне ктитора»: «Привык встречать молитвою зорю, / Кланяться равно и счастью, и горю, / И, думаю, взводного своего / И землю молитвою не опозорю… Бог — это Русь, что во мне живет, / а этого Бога нет у немца». Русское теперь соединяется с советским, порождая такое определение З. Кедриной: советский воин — это «человек, воспитанный в условиях советского строя на лучших традициях русской культуры» [2, с. 17].
«Основоположником» религиозного дискурса военных лет очевидно является Сталин. Речь, произнесенная по радио 3 июля 1941 г., содержала формулу обращения священника к пастве: «Братья и сестры!.. К вам обращаюсь я, друзья мои!...» [3, с. 2]. Задушевная интонация, высокий, архаизированный строй речи с инверсиями и риторическими фигурами, полный веры тон напоминали проповедь и были подхвачены писателями. Сталин, уверенный в доверчивости и наивности паствы, прибегает к успокоительной лжи («Лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже разбиты и нашли себе могилу на полях сражений» [3, с. 9]), подменяет анализ событий риторикой и антиисторическими мифами, утверждая, например, что цель Гитлера («сатаны») — «восстановление власти помещиков, восстановление царизма» [3, с. 13]. Таким образом, Сталин подражает не просто церковной проповеди, а ее образу в глазах атеиста, уверенного в том, что священники лгут и используют легковерие простого народа в своих интересах.
Чем точнее писателю удавалось скопировать тон и стиль сталинских выступлений, тем большее признание власти он заслуживал. Уже в 1941 г. Сталин воспроизвел основной набор тем и сюжетов, которые и использовала литература. Так, «Русская повесть», написанная П. Павленко уже в декабре 1941 г., во многом инспирирована речью Сталина на Параде 7 ноября 1941 г. На первое место среди полководцев прошедших войн вождь ставит Александра Невского, словно «забывая» о победоносной, но «неподходящей» в данном случае Гражданской войне и ее героях, зато актуализируя тему борьбы с западным противником, что подчеркивалось воспоминанием о Суворове, прославившемся отнюдь не в оборонительных войнах. Главный персонаж повести П. Павленко закономерно является полным тезкой древнерусского святого князя.
«Русская повесть» была написана П. Павленко по материалам поездки на Северо-Западный фронт в октябре 1941 г. Это было одно из первых произведений о партизанах, о которых тогда было почти ничего неизвестно, так как сообщение с оккупированными территориями фактически отсутствовало, а наступательных операций, за исключением Московской, Красная Армия не вела. Тем не менее в повести нет ни малейшего упоминания о той растерянности и неопределенности, упоминание о которых проскальзывало в официозную литературу («Непокоренные» Б. Горбатова, «Молодая гвардия» А. Фадеева).
В самом начале зимы 1941 г. старый лесник Александр Невский становится преемником легендарного партизана Коростылева, начальника крупного и боеспособного отряда, создает базы, проводит акции, посильные разве что крупной регулярной части. «Агитирует» не только имя лесника-партизана, но и его семейная история. «Правильная» дочь Наталья — не только верная соратница отца, но и возлюбленная не менее «правильного» партизана, а «неправильный» сын Павел, чуть не докатившейся до предательства, пытается спасти отца ценой собственной жизни. Враги лишены человеческих качеств, они садистски расправляются даже с больными детьми, а «наши» расправляются с фашистами буквально с Божьей помощью. Кульминацией повести является фактически религиозный ритуал благоговейного слушания «слова Божия», роль которого выполняет та самая речь Сталина от 7 ноября 1941 г., где звучит, как пример для подражания, имя святого (отметим кстати, что подобная сцена слушания-священнодействия будет повторяться, в том числе в фадеевской «Молодой гвардии»). «Много бед пережила страна, много земель страдало под немецкой пятой… но Сталин был спокоен и тверд не только внешне. Сталин говорит… В маленьком русском городке, обуглившимся от пожара, мальчик шептал израненной матери: “Мамочка, тише!.. Сталин же говорит… Не стони, милая мама! Мы не услышим!”… В тот день, суровый, полный испытаний, принесший много неудач боях, один лишь сталинский голос торжествовал, предвосхищая победу. Сети, метель! Поднимай, разноси по стране сталинский голос! Пои сердца спасительной надеждой, зови на бой Россию!».
Героическая смерть Невского — залог бессмертия его дела, предвестник победы: в село врываются партизаны, изгоняющие врага. Смерть «праведника» преображает мир: становится на путь истинный Павел, подчиняет личное общественному Наталья, предпочитающая любви долг «партизанской хозяйки».
Страдание имело право на описание только в том случае, если оно могло возбудить ненависть к врагу. И если христианский канон предписывает благодарить Бога за боль и страдание как за путь к очищению и спасению души, то военная литература прибегала к душераздирающим сценам с целью очищения от «фашистской нечисти» и спасения родной земли. Параллель не случайна: как известно, Русская Церковь сразу же объявила войну священной, а долг защиты Родины — святым долгом человека.
Изображение лютых мук во имя высокой цели в натуралистической повести В. Василевской «Радуга» (1942) отличается от мученических актов времен первых христиан мрачной эстетикой насилия, носящей какой-то эротический оттенок. Палачи и жертвы, убитые и растерзанные дети, от подростка до новорожденного младенца, претерпевающие пытки и насилие женщины… Кажется, все ужасы ада разверзлись над украинской землей (хотя к 1942 г. мало кто представлял себе, что там на самом деле творилось). Рассказывая о страданиях жителей оккупированного села, Василевская прибегает к апокалиптическим образам и мотивам: земля не принимает мертвых (потому что немцы не разрешают хоронить убитых красноармейцев, запрещают матери забрать труп застреленного ребенка; другой матери не дозволено снять с виселицы тело шестнадцатилетнего сына). Хлеб превращается в орудие смерти: убит мальчик, пытавшийся принести немного еды арестованной беременной партизанке; деревенские дети под страхом смерти не могут передать хлеб умирающим от голода пленным. Река превращается в кровь в сцене казни партизанки Олены Костюк и ее только что родившегося ребенка. Тема избиения младенцев повторяется бесконечно, пока не доходит до своей чудовищной кульминации: изнасилованная деревенская красавица Малаша радуется, когда пуля попадает ей в живот, ведь так она наконец-то избавится от вражеского отродья. Тема Рахили, плачущей о детях своих, достигает апогея в сцене снятия матерью с виселицы тела казненного сына, столь похожей на Опла-кивание/Пьету, а о подвиге Сорока Мучеников Севастийских напоминает казнь Олены на льду замерзшей реки. В памяти значительной части населения Крёстная мука соотносится с Воскресением Христовым, так и мать повешенного сына рожает ребенка в момент, когда в село врываются советские воины. Мотив неистребимой жизни также восходит к словам Евангелия о зерне, падшем в землю, умершем, но принесшем много плода, продолжающим «крестную» тематику повести, на обложке одного из военных изданий которой была изображена церковь с крестом и коленопреклоненный народ, впрочем, взирающий с надеждой не на храм Божий, а на самолет с красными звездами на крыльях.
Ярким примером сочетания лозунга, агитации с религиозными (пусть и не очень навязчивыми, но много говорившими тогдашнему читателю) концептами является повесть Б. Горбатова «Непокоренные (Семья Тараса)» (1943). Несмотря на то, что Горбатов, готовясь к работе над повестью, переговорил с большим количеством жителей только что освобожденного Луганска, а у некоторых персонажей были прототипы (так, расстрелянный немцами врач Г. А. Фишкин послужил прообразом доктора Флейшмана), повесть нельзя назвать реалистической. Это было соцреалистическое переложение «Тараса Бульбы», начиная с персонажей — старого рабочего Тараса и его сыновей — «верного» старшего и «неверного» младшего Андрея. Присутствует, наряду с перепевами «Тараса Бульбы», и религиозно-литературный мотив поисков Земли Обетованной, но уже не страны Муравии, а не разоренного гитлеровцами села. Повесть откровенно поучительна: нельзя остаться в стороне от общенародной судьбы, как это пытается сделать Тарас, потрясенный картиной отступления армии, бросившей беззащитное население на произвол судьбы. Но, оказывается, «родной» власти следует не только все простить, но и все отдать, даже жизнь, как повешенная за связь с партизанами младшая дочь Тараса Настя, как готовы это сделать Тарас, его старший сын и внук-подросток. Горбатов вводит в повесть не только жертвенные мотивы «смерти за други своя», но и, используя выражение Сталина, религиозный образ города, «распятого на кресте»: «...город властно тянул его, звал, мучил. — “Ты видел меня в славе, погляди — вот я распят на кресте. Коснись моих ран, Тарас. Раздели мои муки”».
Одним из устойчивых образов продолжения жизни является весенний сев, земля, пережившая злую зиму и готовая опять плодоносить. Образ пробуждающейся природы, пашни, способной принять зерно, — центральный в военной повести В. Овечкина «С фронтовым приветом» (1944). Перед глазами возвращающегося на фронт после ранения и короткой побывки в родных местах капитана Спивака проходят земли только что освобожденной Украины: «…расстилались запаханные поля, проходили кое-где по дорогам тракторы с повозками, груженными семенами, встречались бороновавшие и сеявшие на коровьих упряжках люди. Был май месяц».
Сюжет повести, вобравшей в себя опыт военкора, журналиста, основателя одной из первых сельхозкоммун В. Овечкина, строится вокруг идеи односельчан — бывшего агронома комбата Петренко и капитана Спивака написать в родную деревню письмо-наказ. В минуту затишья между боями к обсуждению подключаются бойцы батальона. Видение разоренной страны, память о страданиях и смерти, поджидающих на фронте каждого, отходят на второй план перед неким лучезарным мечтанием, соединяющим две «половины» мифа о счастье: это жизнь до войны, нарисованная как безмятежное изобилие («…какая жизнь распрекрасная установилась у нас перед войной, да не ценили мы ее как следует. Подумать только: два с полтиной килограмм селедок стоил…», и послевоенное блаженство, которое, как в сказке, установится сразу после войны: «…в новой жизни на освобожденной земле хотим мы видеть, после всех ужасов войны, много красоты и радости… Много крови пролили на этой земле, но и многого хотим от будущей жизни». Само письмо, по словам героев, «разбухшее до размеров повести», появляется в тексте не целиком, а в виде редких и коротких фрагментов, оставаясь сюжетным стержнем, соединяющим картины боев в районе Карпат с мечтой о новой жизни, в которой не будет отстающих колхозов (но сами колхозы будут!), а здание Ростовского вокзала передвинут на другое, более удобное для жителей место. Так возникает постапокалиптическое видение новой земли и нового неба, прекрасного Небесного Града, населенного праведниками, достойно прошедшими через страшные испытания.
Кошмар военных лет актуализировал древние архетипы, среди которых одним из важнейших был образ искупительной жертвы, без принесения которой невозможно восстановление, воскресение мира. Издревле на роль такой жертвы избиралось лучшее: «начатки плодов», первенец, молодое существо (птенец горлицы, ягненок, сын Авраама Исаак). Подобно древним патриархам, немолодая (т.е. не способная иметь новых сыновей) вдова Елена Кошевая преодолевает человеческую скорбь осознанием надличного долга, требующего ее активного согласия принести в жертву жизнь ее единственного сына, прекрасного юноши Олега. Высокая, идущая от библейских образов традиция предписывает ей быть именно вдовой, тогда как в реальности эта молодая, красивая женщина была в разводе, и отец Олега, вместе с новой семьей, был свидетелем ужаса, происходившего в Краснодоне. После освобождения Краснодона в нем активно работал СМЕРШ, и приезд Фадеева был для смертельно перепуганных жителей еще одним испытанием. Многие, в том числе мать Любы Шевцовой, отказались говорить с писателем. А вот Елена Кошевая проявила активность. Многое было написано с ее слов, в том числе «комиссарство» Олега, в реальности делившего эту работу с В. Третьякевичем. По словам П. Т. Тронько, бывшего в те годы секретарем ЦК ЛКСМУ, «мать Кошевого развила бурную деятельность по возвеличиванию сына в выгодном для нее освещении» [4, с. 277]. Умерла Елена Кошевая в одиночестве, в нетопленой комнате, рядом с парализованной матерью.
Западный исследователь Фэри фон Лилиенфельд отмечала: «Если тщательно проанализировать ”Молодую гвардию“ Фадеева, особенно первый, не вынуж- денно обработанный вариант, сплошь и рядом ощущается присутствие прежней духовной традиции — в идее жертвенности, искупления, в видении, когда героине кажется, что ангелы с неба благословляют ее поступок» [5, с. 36]. Фадеев воспринимал своих юных героев как, возможно, единственное оправдание послереволюционной жестокости, проявленной во имя следующих поколений, однако нетрудно представить, что сами эти чистые дети стали искупительной жертвой за грехи «отцов». (Впрочем, не предусмотренные автором ассоциации могло вызвать и невольное сравнение обстоятельств гибели молодогвардейцев с обстоятельствами гибели их сверстников, как расстрелянных в доме Ипатьева, так и сыновей Великого князя К. К. Романова, что были заживо сброшены вместе с Великой княгиней Елизаветой Федоровной в шахту недалеко от Алапаевска с той лишь разницей, что из-под земли доносился не «Интернационал», а «Херувимская»).
«Прежнюю духовную традицию» можно усмотреть и в отношении молодогвардейцев к земным благам: многие из них живут в поистине евангельской нищете, не замечая ее и уж тем более не считая власть виновной в своей бедности. Единственной реальной ценностью для героев Фадеева является духовная жизнь, которая для них состоит в следовании революционным идеалам, соблюдении строгих требований морали, тяге к знаниям, художественном творчестве и, конечно, в дружбе и чистой любви. Фадеев подчеркивает «книжность» своих героев: много читают не только поэты-интеллектуалы Земнухов и Кошевой, но и «простец» Тюленин; песни, стихи, в том числе сочиненные самими героями, несут в романе символическую нагрузку, служат знаком предельного напряжения духовных сил персонажей. Писатель создал на документальном материале романтическую трагедию, основанную на борьбе света и тьмы, добра и зла. Роман звучит как реквием по военному поколению молодежи, жертвенному, чистому, искренне верующему в идеалы революции, бесспорные и для самого Фадеева. Один из читателей произведения, В. Шаламов, считал первую редакцию «достойным произведением» [6, с. 232]. В романе представлены основные мифы военной мифоидеологической модели, а также «вечные» архетипы, восходящие как к народным морально-этическим представлениям, так и к каноническим христианским текстам. Роман, фактически канонизировавший историю «Молодой гвардии», имел большой успех не только благодаря поразительному документальному материалу, но и в силу найденной Фадеевым пронзительной и отече-ски-нежной интонации повествования.
На имплицитно существующем апокалиптическом фоне жизни в оккупации стало заметнее духовное величие вчерашних школьников, сохранивших веру и в идеалы отцов, и в конечную победу над врагом, которая была для них победой абсолютного добра над инфернальными силами зла. Не случайно главным направлением деятельности юных героев «Молодой гвардии» была работа по распространению «слов добра», т.е., по сути, проповедь (листовки, красные флаги). Фактической канонизации героев в лике «советских святых» служит введенный в повествование ряд библейских архетипов, главным из которых было обретение бессмертия через жертвенную смерть. Юный Олег Кошевой, как уже было сказано выше, уподоблен отроку Исааку; мать Валентины Борц, узнав о выборе дочери, говорит: «Да благословит тебя Бог». Гордая Ульяна Громова, с ее неис- товым целомудрием, похожа на первохристианскую мученицу Иулианию. Мучения Евгения Мошкова, которого фашисты замораживали в проруби, отогревали в печке и снова допрашивали, вызывают в памяти подвиг Сорока Мучеников Се-вастийских. Флаги, вывешенные на 7 ноября, функционально близки к пасхальным хоругвям, а конспиративная вечеринка по поводу праздника вызывает ассоциации если не с Тайной Вечерей, то с катакомбными молитвенными собраниями первых христиан. Роль апостольской проповеди, проходящей в обстановке смертельной опасности, играют переданные по радио речи Сталина.
Таким образом, мы видим, как в ряде случаев дискурс власти сближается с религиозным дискурсом, использует религиозные концепты, кажется, в прагматических целях, но невольно подчеркивая значение Великой Отечественной войны как священной войны русского народа.
Список литературы Религиозные концепты в русской прозе периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет
- Добренко Е. Метафора власти. Литература сталинской эпохи в историческом освещении. Мюнхен: Sagner, 1993. 405 c.
- Кедрина З. Черты советского патриота в художественной литературе // Агитатор. 1944. № 17-18.
- Сталин И. О Великой Отечественной войне Советского Союза. Изд. 5-е. Москва, 1949.
- Жуков И. Фадеев. Москва: Молодая гвардия, 1989. 336 с.
- Петрова Н. К. Вспомним. // Отечественная история. 2000. № 3.
- Жуков И. Рука судьбы. Правда и ложь об М. Шолохове и А. Фадееве. Москва: Воскресенье, 1994. 256 с.