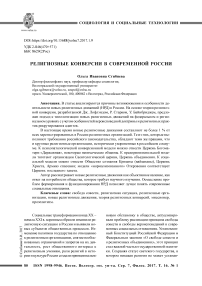Религиозные конверсии в современной России
Автор: Сгибнева Ольга Ивановна
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Социология и социальные технологии
Статья в выпуске: 1 т.16, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются причины возникновения и особенности деятельности новых религиозных движений (НРД) в России. На основе теории религиозной конверсии, разработанной Дж. Лофлэндом, Р. Старком, У. Байнбриджем, предложен подход к типологизации новых религиозных движений на федеральном и региональном уровнях с учетом особенностей вероисповедной доктрины и религиозных практик рекрутирования адептов. В настоящее время новые религиозные движения составляют не более 1 % от всех зарегистрированных в России религиозных организаций. Те из них, которые выполняют требования российского законодательства, обладают теми же правами, что и крупные религиозные организации, исторически укорененные в российском социуме. К психопатологической конверсионной модели можно отнести Церковь Богоматери «Державная», некоторые неоязыческие общины. К предпринимательской модели тяготеют организации Саентологической церкви, Церковь объединения. К социальной модели можно отнести Общество сознания Кришны (вайшнавы), Церковь Христа, Армию спасения; модели «нормализованного» Откровения соответствует Церковь последнего завета. Автор рассматривает новые религиозные движения как объективное явление, как ответ на потребности общества, которое требует научного изучения. Осмысление проблем формирования и функционирования НРД позволяет лучше понять современные социальные отношения.
Свобода совести, религиозная ситуация, религиозные организации, новые религиозные движения, теория религиозных конверсий, миссионер, прозелитизм
Короткий адрес: https://sciup.org/14974999
IDR: 14974999 | УДК: 2-846(470+571) | DOI: 10.15688/jvolsu7.2017.1.9
Текст научной статьи Религиозные конверсии в современной России
DOI:
Социальные трансформации конца ХХ – начала XXI в. коренным образом изменили религиозную ситуацию в России и выявили новых субъектов общественных процессов. Изменение политики государства по отношению к религиозным организациям, снятие необоснованных ограничений и запретов на их деятельность, рост общественного интереса к религиозным учениям, роли религий в истории и культуре России создали принципиально новую обстановку в обществе, актуализировали проблему реализации принципа свободы совести и свободы вероисповеданий в современных социальных отношениях. Установленный Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом «О свободе совести и о религиозных объединениях», этот принцип стал важной частью государственной политики. Сохраняя статус светского государства, в котором никакая религия не может устанав- ливаться в качестве государственной или обязательной, а религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом [1, с. 44, 52–54], Россия не может не учитывать поликонфессиональную структуру общества, сформировавшуюся в результате исторически длительного и сложного процесса функционирования религиозных объединений.
Конфессиональный портрет России сложен и многообразен, основной тон в нем задают религиозные организации, история которых насчитывает столетия. Вместе со всем российским обществом они прошли через эпоху государственной религии, в которой были и «терпимые», и «гонимые» религии, через эпоху запретов, ограничений и репрессий государства с атеистической идеологией, получив в Российской Федерации возможности развития и взаимодействия в условиях свободы совести и свободы вероисповеданий. В России сегодня зарегистрированы около 28 тыс. религиозных организаций более 60 вероисповедных направлений. Более половины из них (16 277) составляют организации Русской православной церкви (Московский патриархат). Православие представлено в нашей стране еще 435 организациями других направлений (старообрядчество: Русская православная старообрядческая церковь, Древлеправославная церковь, Поморская церковь и другие согласия; Русская православная церковь за границей, Истинно православная церковь, Русская православная автономная церковь и др.). Действуют 235 организаций Римско-католической церкви, 90 – Армянской апостольской церкви, более 5 тыс. организаций различных протестантских направлений. Названные христианские организации, более 5 тыс. мусульманских и около 300 буддийских общин [3] укоренены в культурных традициях России, имеют длительную историю функционирования на ее территории. Но не только они составляют конфессиональный портрет современной России.
С конца 80-х гг. прошлого века активно распространяются организации и движения, смысл которых по-разному интерпретировался исследователями современной религиозной ситуации в России. Их называли нетрадиционными культами, неорелигиями, тоталитарными сектами, внеконфессиональными и неканоническими верованиями и т. д. Это было новое явление для Советского Союза, для России. Часть новых религиозных образований возникли как результат миссионерской деятельности зарубежных центров, часть возникла на российской почве: их лидеры заявили о новом прочтении Священных книг, о новом Откровении, сошедшем на них. В условиях правового вакуума конца 80-х – начала 90-х гг. ХХ в. началось мощное шествие этих организаций по территории всей страны. Либерализация государственной политики, отсутствие необходимой для регулирования отношений в религиозной сфере правовой базы, неготовность чиновников и высших руководителей страны к взаимодействию с такого рода организациями привели к тому, что миссионеры, прежде всего зарубежные, получили поддержку властных структур. С руководителями Церкви Объединения (Южная Корея), Саентологической церкви (США), АУМ Сенри-ке (Япония) встречались М. Горбачев, А. Руцкой, Р. Хасбулатов, руководители органов власти в субъектах Российской Федерации. Миссионерам предоставлялись лучшие залы в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах, время на российских телеканалах; в Хаббарт-колледжах прошли обучение представители федеральных и региональных органов власти и управления [2].
Не было в России 80–90-х гг. ХХ в. и научного опыта исследования этого нового для российской общественной жизни явления. В сложившихся условиях полезной для анализа новой ситуации в религиозной сфере представляется теория религиозных конверсий, разработанная американскими социологами Джоном Лофлэндом, Родни Старком и Уильямом Байнбриджем в конце 60-х гг. ХХ в., когда в США стали активно распространяться идеи созданной в Южной Корее в конце 1950-х гг. Церкви объединения Муна. Американская социологическая школа первой встала перед проблемой осмысления нового явления в религиозной сфере общества [4]. Методы миссионерской деятельности этой церкви не укладывались в рамки теории прозелитизма, то есть стремления обратить других в свою веру; деятельности, направленной на достижение этой цели. По отношению к исследуемым процессам социологи применили термин «конверсия» (от лат. conversion – обращение, превра- щение, изменение), именуя этим понятием процесс обращения в новые, нетрадиционные для территории распространения религиозные движения. В настоящее время термин «новые религиозные движения» (НРД) стал достаточно устойчивым и используемым в современных религиоведческих исследованиях, он заменил обилие новых понятий, возникших на рубеже 80–90-х гг. прошлого века и имеющих прежде всего оценочный (как правило, негативный) характер. Под новыми религиозными движениями (англ. new religious movements) понимается «совокупность разных по учениям и организационному устройству религиозных объединений, которые сформировались и действуют вне исторически сложившихся мировых и национальных религий в основном с середины ХХ в. по настоящее время» [4, с. 187]. Этот термин носит обобщающий характер и не отражает качественную специфику новых для религиозной жизни общества явлений, но он позволяет обеспечить научную объективность религиоведческих исследований, в отличие от конфессионально ориентированных оценок новообразований («тоталитарные секты», «нетрадиционные культы» и т. п.). Появившись в 50-х гг. прошлого века, НРД быстро распространились в США, странах Европы, Азии, стали объектом общественного внимания; их изучение позволило выработать концептуальные подходы к осмыслению нетрадиционной религиозности и ее влияния на жизнь общества, к каковым относится и теория религиозной конверсии.
Понятие «религиозная конверсия» активно используется в научных исследованиях со второй половины ХХ века. Классическим считается определение, сформулированное Ричардом Травизано в 1970 г.: под религиозной конверсией понимается «вход в религиозную организацию, сопровождающийся изменением общей идентичности индивида, включающий в себя мировоззрение индивида, его личностные характеристики и поведенческие установки» [5, с. 240].
Через теорию религиозной конверсии Дж. Лофлэнд и Р. Старк объясняют причины возникновения и быстрого роста новых религиозных движений во второй половине ХХ в., обращая особое внимание на соотношение религиозной конверсии с прозелитизмом. Общим основанием для этих процессов выступает кризис религиозной идентичности как следствие несоответствия духовных интересов и ожиданий тому, что предлагают традиционные религии. Однако прозелитизм связан с новым религиозным выбором между действующими в социальном пространстве конфессиями. Религиозная же конверсия связана с принятием вероисповедания религии инокультурного происхождения, которая для автохтонного населения выступает в качестве нетрадиционной религии. Мотивация «обращения» нередко носит утилитарный характер и опирается на желание верующего индивида получить понятные и эффективные средства удовлетворения своих ожиданий и потребностей. Они могут касаться мировоззренческих исканий, социальных проблем, здоровья, семейно-брачных отношений. Для людей, испытывающих такие потребности, для людей, не удовлетворенных окружающей действительностью, НРД представляются наиболее подходящей формой организации духовной жизни. Согласно концепции Дж. Лофлэнда, при исследовании религиозной конверсии рекрутирования в НРД требуется комплексное понимание трех основных факторов «обращения» к новому религиозному выбору: длительная неудовлетворенность имеющимся духовным выбором, убежденность в решении жизненных проблем с помощью новой религии, самоопределение человеком себя как искателя такой религии, которую он сможет считать «истинной»; все они формируют психологическую детерминированность «обращения» [4, с. 152]. Но этого недостаточно, ибо процесс изменения религиозной идентичности имеет интерактивный характер. Ведь и сами новые религиозные движения ведут активную деятельность по популяризации своего вероучения, предлагают новые практики и новые духовные перспективы, ищут подходы к людям разных культур.
Анализ обращения должен учитывать и факторы социальных ситуаций, активизирующих выбор новой религиозной среды. Дж. Лофлэнд выделяет четыре таких фактора: достижение индивидом некоего поворотного пункта в системе прежних религиозных связей (конфликт), установление личных доверительных отношений с членами новой религиозной общности (знакомство), прекращение связей за пределами этой общности (раз- рыв), интенсивное общение с адептами НРД [4, с. 151–153]. Таким образом, выбор новой религии можно рассматривать как сочетание индивидуальной мотивации в выборе новой религии и эффективных практик взаимодействия в новой религиозной среде.
На основе изучения деятельности новых религиозных движений и вопросов изменений в духовном выборе личности, Уильям Байнб-ридж и Родни Старк разрабатывают теорию рационального выбора в социологии религии. По их мнению, религиозный выбор в современном социальном пространстве, где религиозные идеи конкурируют друг с другом, можно рассматривать как рациональное действие, обусловленное мотивацией духовного поиска личности, ее потребностями и влиянием социального окружения. Изучение основ формирования новых религиозных движений позволило Р. Старку и У. Байнбриджу выделить четыре базовые модели образования новых религиозных движений:
– психопатологическая, которая возникает как следствие стрессового состояния основателя, для которого его личный религиозный опыт оказывается компенсаторным средством и на этом основании он предлагает ее своим последователям, нуждающимся в помощи и поддержке;
– предпринимательская, возникающая как новый продукт, созданный основателем из усвоенных им некогда религиозных учений, и продвигаемый им подобно товару на рынке духовных услуг;
– социальная, формирующаяся на основе общих духовных исканий в объединении индивидов;
– модель «нормализованного» Откровения, сформулированная лидером-основателем, убежденным в своей роли посредника между Богом (божественными силами) и людьми, для спасения которых он и получил новое Откровение [4, с. 153].
Эти модели позволяют типологизировать и новые религиозные движения современной России. Истоки некоторых из них уходят в 70– 80-е гг. ХХ в., формирование таких движений вызвано прежде всего разочарованием в автохтонных религиозных традициях, устоявшихся религиозных практиках. Другие бурное развитие получили в 90-е гг. прошлого века в результате активной миссионерской деятельности зарубежных религиозных организаций после изменения вероисповедной политики государства и легализации религиозной пропаганды в стране. За прошедшие два десятилетия ряд НРД обрели относительную устойчивость, некоторые из них успешно социализировались в новой России, но отношение к ним как «нетрадиционным религиям», «деструктивным сектам», «псевдорелигиям» продолжает бытовать в обществе, в том числе на различных уровнях власти [2, c. 18]. В то же время Федеральный закон № 125-ФЗ от 26.09.1997 «О свободе совести и о религиозных объединениях» устанавливает, что «в Российской Федерации гарантируется свобода совести и свобода вероисповедания, в том числе право исповедовать индивидуально или совместно с другим любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать и менять, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними» [1, с. 52].
В настоящее время новые религиозные движения составляют не более 1 % от всех зарегистрированных в России религиозных организаций, но те из них, которые выполняют требования российского законодательства, отвечают потребностям определенной части населения, пусть и небольшой, обладают теми же правами, что и крупные религиозные организации, исторически укорененные в российском социуме.
К первой конверсионной модели (психопатологической) можно отнести Церковь Богоматери «Державная» (в России зарегистрировано 19 организаций, в Волгоградской области – 1); из незарегистрированных объединений – некоторые неоязыческие общины, анастасиевцев.
К предпринимательской модели тяготеют организации Саентологической церкви (в России была зарегистрирована одна организация в Москве, в 2016 г. ее деятельность приостановлена по решению суда; в Санкт-Петербурге и ряде других городов действуют незарегистрированные группы), Церковь объединения Муна (6 организаций). В Волгоградской области названные НРД не представлены.
К социальной модели тяготеют Общество сознания Кришны или вайшнавы (всего зарегистрированы 79 организаций, в Волгоградской области – 1), Церковь Христа (всего в России зарегистрированы 17 организаций, в Волгоградской области – нет), Армия спасения (зарегистрированы 13 организаций, в Волгоградской области – нет).
Модели «нормализованного» Откровения соответствует Церковь последнего завета (иногда ее называют Церковь Виссариона, зарегистрированы 2 организации в Красноярском крае).
Новые религиозные движения дополнили и усложнили конфессиональный портрет России. Но в условиях культурного и религиозного плюрализма они стали реальной частью жизни общества, переживающего сложные социальные трансформации. В повседневности люди постоянно сталкиваются с вечными вопросами о смысле жизни, взаимоотношениях мужчин и женщин, родителей и детей, значении страдания, болезни и старости. Широта и богатство выбора, предоставленные индивиду в условиях свободы совести и свободы вероисповеданий, неудовлетворенность условиями жизни и проблемы самореализации личности оборачиваются кризисом идентичности, который весьма симптоматичен для российской действительности конца ХХ – начала XXI века. Религиозная конверсия представляет особый способ решения проблемы идентичности в современном интенсивно меняющемся мире, является отражением неудовлетворенности и поисков индивидами прочного основания повседневной жизни.
Список литературы Религиозные конверсии в современной России
- Законодательство о свободе совести: информ.-метод. справ./редкол.: Ю. И. Сизов, О. В. Иншаков, О. И. Сгибнева . -Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2008. -355 с.
- Новые религии в России: двадцать лет спустя: материалы Междунар. научн.-практ. конф., Москва, 14 декабря 2012 г./редкол.: Е. С. Элбакян . -СПб., 2012. -240 с.
- Сведения о государственной регистрации религиозных организаций по состоянию на 31.12.2016. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://to34.minjust.ru/node/2483(дата обращения: 24.01.2017). -Загл. с экрана.
- Смирнов, М. Ю. Социология религии: словарь/М. Ю. Смирнов. -СПб.: Изд-во СПбГУ, 2011. -412 с.
- Travisano, R. V. Alternation and conversion as qualitatively different transformations/R. V. Travisano//Social Psychology Through Symbolic Interaction. -Waltham.: Ginn-Blaisdell, 1970. -Р. 238-248.