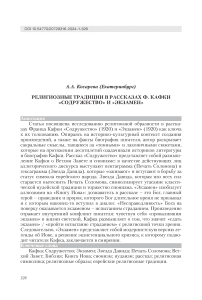Религиозные традиции в рассказах Ф. Кафки «Содружество» и «Экзамен»
Автор: Косарева А.А.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 1 (68), 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию религиозной образности в рассказах Франца Кафки «Содружество» (1920) и «Экзамен» (1920) как ключа к их толкованию. Опираясь на историко-культурный контекст создания произведений, а также на факты биография писателя, автор раскрывает сакральные смыслы, таящиеся за «темными» и лаконичными сюжетами, которые на протяжении десятилетий озадачивали историков литературы и биографов Кафки. Рассказ «Содружество» представляет собой размышление Кафки о Ветхом Завете и сионизме: в качестве действующих лиц аллегорического дискурса выступают пентаграмма (Печать Соломона) и гексаграмма (Звезда Давида), которые «оживают» и вступают в борьбу за статус символа еврейского народа. Звезда Давида, которая изо всех сил старается вытеснить Печать Соломона, символизирует угасание классической иудейской традиции и торжество сионизма. «Экзамен» изобилует аллюзиями на «Книгу Иова»: дознаватель в рассказе - это Бог, главный герой - праведник и пророк, которого Бог длительное время не призывал и с которым наконец-то вступил в диалог. «Несправедливость» Бога на поверку оказывается экзаменом - испытанием страданием. Произведение отражает внутренний конфликт писателя: чувствуя себя «провалившим экзамен» в жизни светской, Кафка размышляет о том, что значит «сдать экзамен» / «пройти испытание страданием» с религиозной точки зрения. Следовательно, «Экзамен» представляет собой модернистскую версию легенды об Иове, а решение экзистенциального кризиса, к которому подводит читателя Кафка, заключается в смирении.
Кафка, содружество, экзамен, звезда давида, печать соломона, ветхий завет, библия, книга иова, сионизм, иудаизм, рассказ, религиозная символика, религиозные образы, еврейские религиозные традиции
Короткий адрес: https://sciup.org/149145256
IDR: 149145256 | DOI: 10.54770/20729316-2024-1-326
Текст научной статьи Религиозные традиции в рассказах Ф. Кафки «Содружество» и «Экзамен»
Философ и историк религии Гершом Шолем говорил, что три столпа еврейской мистической мысли – это Библия, Зогар и творчество Франца Кафки [Schwartz 2006, 180], и тенденция интерпретировать произведения Кафки в религиозном ключе наметилась в зарубежном литературоведении уже очень давно. Началом ее следует считать 1937 г.: именно тогда была опубликована первая биография Кафки, предлагавшая интерпретацию его работ через призму иудаизма. Автором был Макс Брод, близкий друг и душеприказчик писателя [Брод 2012]. В 1940 г. Томас Манн поддержал Брода, охарактеризовав Кафку как религиозного художника [Han 2011], и с тех пор поток исследований, посвященных религиозному началу в творчестве Кафки, не иссякал и оформился в отдельное направление в «кафковедении». В 1955 г. о влиянии иудаизма на творчество Кафки писал Клемент Гринберг [Greenberg 1986], в 1985 – Ритчи Робертсон [Robertson 1985]. В 1990-е тему взаимоотношений человека и Бога в творчестве Кафки раскрыли Стюарт Лэсайн [Lasine 1990], Арнольд Хайдзик [Heidsieck 1994] и Ривка Хорвитц [Horwitz 1995], но особенно насыщенными по количеству религиозных толкований стали 2000-е. В этот период были выпущены монографии Гили Сафран Навех [Naveh 2000], Бет Хокинз [Hawkins 2002], Гарольда Блума [Bloom 2009], Моше Иделя [Idel 2010], Дэвида Сучоффа [Suchoff 2011] и Джун Ливитт [Leavitt 2012], исследовавшие репрезентацию каббалистической и иудейской традиции в творениях Кафки.
Тем не менее, некоторые из рассказов писателя, наполненные религиозными аллюзиями, по-прежнему остаются для литературоведов своего рода ребусами. К ним относятся «Gemeinschaft» («Содружество», 1920) и «Die Prüfung» («Экзамен», 1920), созданные Кафкой в тот период, когда он с особенным рвением изучал Ветхий Завет, Тору, Талмуд и Каббалу. Цель данной статьи – предложить новые толкования вышеупомянутых рассказов с учетом биографического и культурно-исторического контекста их создания.
Название рассказу «Содружество» дал Макс Брод. Он же увидел в этом произведении «самую суть сионизма» и отражение попыток Кафки найти еврейскую общину, в которой тот смог бы почувствовать себя принятым [Isenberg 1999, 28]. «Шестой», которого без особого успеха выталкивают «пятеро» – это, по мысли Брода, сам Кафка, стремящийся найти свое место в еврейской общине. Существуют и другие версии. Например, В. Лиска полагает, что рассказ «Содружество» – о свойствах любого человеческого сообщества: чтобы существовать и поддерживать идею единения, сообществу обязательно нужно кого-то выталкивать [Liska 2009, 23–25]. Оба толкования отражают эмоциональный заряд рассказа, но не объясняют, почему повествователей именно пять, что удерживает их вместе, почему они подобны шарикам ртути, и что представляет собой «дом», из которого они выходят.
Принимая во внимание увлечение Кафки иудаизмом и эзотерикой в годы, предшествующие созданию рассказа, можно предположить, что пятеро – это вершины пентаграммы, Печати царя Соломона, а шестой – та шестая вершина, которая превращает пентаграмму в гексаграмму, Звезду Давида. В древности печать Соломона часто рисовали на дверях и воротах с целью защитить дом от злых духов, ведь, согласно легенде, именно с помощью печати на своем кольце Соломон изгонял демонов и повелевал ими [Cox 2009, 175]. В XII в. Печать Соломона стали называть Звездой Давида, и долгое время этот символ изображался как в виде пентаграммы, так и в виде гексаграммы. В 1897 г. на втором съезде сионистов Теодор Герцль сделал «гексаграмму» символом сионистского движения, и с тех пор Печатью Соломона называли только пентаграмму [Wolf 2001, 97]. Вполне вероятно, что вытеснение пентаграммы гексаграммой (то есть философии Соломона сионистским движением) и легло в основу сюжета рассказа Кафки.
О том, что пятеро в рассказе связаны с Печатью Соломона, свидетельствует, в частности, упоминание ртути. В «Книге ключа», одном из своих трактатов, царь Соломон подробно описывал производство и употребление ртути, так как различные виды ртути содержали ключ к «великому искусству» превращения одних элементов в другие [Patai 2014, 26]. Неслучайно и то, что пятеро не желают принимать шестого в свой «круг» («долгие объяснения означали бы чуть ли не принятие в наш круг» [Кафка 2000, 283]): графически и Печать Соломона, и Звезда Давида представляют собой звезды, заключенные в круг. Смысл заявления «то, что у нас пятерых допускается и терпится, то у шестого не допускается и не терпится» [Кафка 2000, 283], таким образом, сводится к различиям между философскими учениями и мировоззрениями, символами которых являются пентаграмма и гексаграмма. Пентаграмма символизировала иудео-христианскую традицию: в XVI и XVII вв. масоны называли пятиконечную звезду как Печатью Соломона, так и Вифлеемской звездой, демонстрируя свою преданность идеям Ветхого и Нового Заветов. Напротив, гексаграмма, ставшая символом сионизма, не ассоциировалась ни с защитой от злых духов, ни с христианством, ни с алхимией.
«Сколько бы он ни дулся, мы выталкиваем его локтями» [Кафка 2000, 283]: очертания звезды – расположенные под углом друг к другу грани – напоминают человеческие локти. Очевидно, что и у шестого есть «локоть», так как, несмотря на усилия пятерых его прогнать, он «приходит опять», превращая, таким образом, пятиконечную звезду в шестиконечную.
Вопрос о том, что представляет собой «еврейская идентичность» всегда был для Кафки одним из самых сложных. С одной стороны, писатель тяготел к классической иудейской традиции, согласно которой объединение еврейского народа и возрождение Израильского царства могли стать реальностью лишь благодаря Мессии; с другой стороны, он опасался «смерти» иудаизма вследствие ассимиляции евреев в Европе. К сионизму Кафка изначально относился скептически, но, в итоге, пришел к пониманию важной роли, которую играло это движение [Bruce, March 2007, 28– 29, 33]. C 1911 г. Кафка посещал концерты и театральные вечера, организацией которых занимались сионистские объединения; ходил на спектакли еврейской труппы, игравшей на идише; опубликовал эссе «Речь о языке идиш» (1912) [Fischer 1980, 225].
Попытки Кафки найти свое место в еврейской религиозной среде и чтение священных текстов не могли не привести его к размышлениям о смысле собственной жизни. Результатом экзистенциальной рефлексии стал рассказ «Экзамен» («Die Prüfung») – история слуги, который страдает из-за того, что его «не зовут служить» [Кафка 2000, 292]. Герой живет в доме с другими слугами и иногда заглядывает в трактир напротив. Однажды он встречает там слугу, которого «уже когда-то видел». Тот угощает рассказчика («Почему убегаешь? Садись и пей! Я заплачу» [Кафка 2000, 292]) и экзаменует его: задает вопросы, на которые герой не может ответить. Удивительным образом неспособность ответить на заданные вопросы оказывается преимуществом героя: «Останься…это же был только экзамен. Тот, кто не может ответить на вопросы, экзамен выдержал» [Кафка 2000, 293].
М. Мейер полагает, что идея рассказа заключена в том, что «мы должны принимать вопросы как неустранимо открытые, и это само по себе является ответом» [Meyer 2017, 170]. О том, что «Экзамен» – история о необходимости смириться с тем, что есть вещи, априори недоступные познанию, пишет и Н. Харел [Harel 2020, 7]. Э. Геллер рассматривает «Экзамен» как притчу о традиции, которая не отвечает на вопросы (таким образом, рассказчик – олицетворение традиции) и представляет собой «молчаливое и бессознательно мудрое соглашение… не тревожить сон слишком многих непослушных собак» [Heller 1980, 106]. Гарри Стайнхауэр видит в случайной победе рассказчика иллюстрацию кафкианского видения мира как глубоко абсурдного: «Некоторые из героев Кафки – путешественники, скромные рыцари Грааля, ищущие счастья или душевного спокойствия, смысла жизни, справедливости или благодати, оправдания от беспочвенного обвинения или избавления от чувства вины, причину которого не могут понять. Они почти всегда терпят неудачу; но даже когда они преуспевают, это происходит потому, что система в основе своей иррациональна» [Steinhauer1977, 569].
Проанализируем этот сюжет через призму ветхозаветной традиции. Слуга Божий – это либо праведник, либо пророк, на службу которого призывает Бог [Poulsen 2014, 226]. Согласно ветхозаветным сказаниям, каждый пророк был призван Богом выполнить определенную миссию – спасти свой народ на духовном, а иной раз и на физическом уровне (например, Моисей вывел евреев из Египта). Герой рассказа Кафки – это пророк, которого Бог почему-то не призывает. Рассказчик обижен, он не понимает, почему его наказывают: «других зовут, хотя они добивались этого не больше, чем я, или даже вообще не испытывали желания, чтобы их позвали, а у меня, по крайней мере иногда, это желание очень сильно» [Кафка 2000, 292]. Страдания праведника, вызванные предполагаемой несправедливостью Бога, отсылают нас к Книге Иова, и здесь становится ясно, почему Кафка назвал рассказ о поиске смысла жизни «Prüfung»: «Prüfung» в немецком – это не только «экзамен», но и «испытание страданием». Подобно тому, как Бог задает Иову вопросы, раскрывающие непонимание Иовом Замысла Творца («Я буду спрашивать тебя, а ты объясняй Мне» [Библия 1991, 564]), так и дознаватель, задавая сложные вопросы герою («Он о чем-то спрашивал меня, но я не мог ответить, я даже его вопросов не понимал» [Кафка 2000, 292]) показывает герою, что тот не вправе критиковать действия Бога. Так же, как и в «Книге Иова», поворотным моментом в истории становится раскаяние главного героя: «Теперь ты, наверное, жалеешь, что пригласил меня, так я уйду» [Кафка 2000, 293]). Герой наконец-то осознает, что сетовать на Бога, не имея ни малейшего представления об ответственности, которую тот на себя берет, – глупость: «Вседержитель! Мы не постигаем Его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он никого не угнетает» [Библия 1991, 564]. Таким образом, дознаватель в рассказе Кафки – это Бог в человеческом обличии, наконец-то вступивший в диа- лог со своим пророком. На это указывают реплики дознавателя: «Почему убегаешь?» (вспомним «Савл, Савл! что ты гонишь Меня?», обращенное к апостолу Павлу) и «Садись и пей!» (аллюзия на «можете ли пить Чашу, которую я пью?», «вы будете пить из чаши, которую Я пью»). Символично и то, что Бог занимает место рассказчика в трактире: «на моем наблюдательном месте уже сидел посетитель» [Кафка 2000, 292]. Бог может поставить себя на место человека, но человеку не дано понять, что значит быть Богом.
В письме к Максу Броду за ноябрь 1917 г. Кафка признается: «В городе, в семейной жизни, на работе, в обществе, в любви (поставь этот пункт на первую строчку списка, если хочешь) и в обществе в целом – реально существующем или том, к которому мы стремимся – во всех этих областях я провалил экзамен…» [Blunden 1980, 24]. Кафка, полагавший, что в миру он «экзамен» провалил, вероятно, спрашивал себя, а не провалил ли он духовный «экзамен». Всегда ли тот, на чью долю выпадает целый сонм страданий, в этом виноват? Согласно «Книге Иова», «экзамен» сдает не тот, кто преуспел, а тот, кто, пройдя через лишения, осознает, что на все воля Божья. Успех земной и «успех» духовный диаметрально противоположны, и, с точки зрения религии, первый не является смыслом жизни. Таким образом, в 1920 г. Ветхий Завет и сионизм – рефлексия об их родстве и вместе с тем антагонизме – стали для Кафки источниками вдохновения. Звезда Давида, безуспешно вытесняющая Печать Соломона в рассказе «Содружество», и пророк, прошедший испытание страданием в рассказе «Экзамен» – символы поиска Кафкой, называвшего себя «блудным сыном» иудаизма, собственной еврейской идентичности и смысла жизни.
Список литературы Религиозные традиции в рассказах Ф. Кафки «Содружество» и «Экзамен»
- Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М.: СП «Соваминко», 1991. 425 с.
- Брод М. Франц Кафка: Биография. СПб.: Борей Арт, 2012. 304 с.
- Кафка Ф. Рассказы. Пропавший без вести. М.: Фолио, 2000. 543 с.
- Bloom H. Ruin the Sacred Truths: Poetry and Belief from the Bible to the Present. Cambridge; London: Harvard University Press, 2009. 204 p.
- Blunden A. A Chronology of Kafka’s Life // Stern J.P. The World of Franz Kafka. New York: Holt, 1980. P. 11–30.
- Bruce I., March R. Kafka and Cultural Zionism: Dates in Palestine. Madison: University of Wisconsin Press, 2007. 262 p.
- Cox S. Decoding the Lost Symbol: The Unauthorized Expert Guide to the Facts Behind the Fiction. New York: Simon and Schuster, 2009. 250 p.
- Fischer W. Kafka Without a World // Stern J.P. The World of Franz Kafka. New York: Holt, 1980. P. 223–228.
- Greenberg C. The Collected Essays and Criticism. Vol. 3: Affirmations and Refusals, 1950–1956. Chicago: University of Chicago Press, 1986. 339 p.
- Han J.J. Wise Blood: A Re-Consideration. Amsterdam; New York: Brill, 2011. 472 p.
- Harel N. Kafka’s Zoopoetics: Beyond the Human-Animal Barrier. Ann Arbour, USA: University of Michigan Press, 2020. 216 p.
- Hawkins B. Reluctant Theologians: Franz Kafka, Paul Celan, Edmond Jabes. New York City, New York: Fordham University Press, 2002. 265 p.
- Heidsieck A. The Intellectual Contexts of Kafka’s Fictions: Philosophy, Law and Religion. Columbia, SC: Camden House, 1994. 214 p.
- Heller E. Investigation of a Dog and Other Matters // Stern J.P. The World of Franz Kafka. New York: Holt, 1980. P. 103–112.
- Horwitz R. Kafka and the Crisis in Jewish Religious Thought // Modern Judaism. 1995. Vol. 15. № 1. Februar. P. 21–33.
- Idel M. Old Worlds, New Mirrors: On Jewish Mysticism. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2010. 323 p.
- Isenberg N.W. Between Redemption and Doom. Lincoln; London: University of Nebraska Press, 1999. 232 p.
- Lasine S. The Trials of Job and Kafka’s Josef K. // The German Quaterly. 1990. Vol. 63. № 2. Spring. P. 187–198.
- Leavitt O.J. The Mystical Life of Franz Kafka. New York: Oxford University Press, 2012. 212 p.
- Liska V. When Kafka Says We: Uncommon Communities in German-Jewish Literature. Bloomington: Indiana University Press, 2009. 239 p.
- Meyer M. What is Rhetoric? Oxford: Oxford University Press, 2017. 250 p.
- Naveh G.S. Biblical Parables and Their Modern Recreations. Albany: State University of New York Press, 2000. 294 p.
- Patai R. The Jewish Alchemists: A History and Source Book. Princeton; New Jersey: Princeton University Press, 2014. 634 p.
- Poulsen F. God, His Servant, and the Nations in Isaiah 42: 1-9. Tübingen: Mohr Siebeck, 2014. 283 p.
- Robertson R. Kafka: Judaism, Politics, and Literature. Oxford: Clarendon Press, 1985. 330 p.
- Schwartz H. Tree of Souls: The Mythology of Judaism. New York: Oxford University Press, 2006. 618 p.
- Steinhauer H. Twelve German Novellas. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, 1977. 618 p.
- Suchoff D. Kafka’s Jewish Languages: The Hidden Openness of Tradition. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2011. 280 p.
- Wolf L. Jews in the Canary Islands: Being a Calendar of Jewish Cases Extracted from the Records of the Canariote Inquisition in the Collection of the Marquess of Bute. Toronto; Buffalo; London: University of Toronto Press, 2001. 274 p.