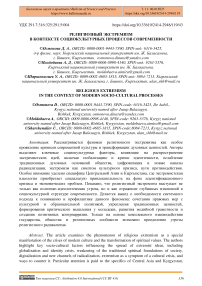Религиозный экстремизм в контексте социокультурных процессов современности
Автор: Осмонова Д.А., Молдобаева А.Д., Шаршеналиев У.А.
Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki
Рубрика: Социальные и гуманитарные науки
Статья в выпуске: 10 т.11, 2025 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается феномен религиозного экстремизма как особое проявление кризисов современной культуры и трансформации духовных ценностей. Авторы выделяют ключевые социокультурные факторы, влияющие на распространение экстремистских идей, включая глобализацию и кризис идентичности, ослабление традиционных духовных оснований общества, цифровизация и новые каналы радикализации, экстремизм как симптом культурного кризиса, пути противодействия. Особое внимание уделено специфике Центральной Азии и Кыргызстана, где экстремистская идеология приобретает социальную привлекательность на фоне идентификационного кризиса и экономических проблем. Показано, что религиозный экстремизм выступает не только как политико-идеологическая угроза, но и как отражение глубинных изменений в социокультурной структуре современности. Делается вывод о необходимости системного подхода к пониманию и профилактике данного феномена: сочетания правовых мер с культурной и образовательной политикой, укрепления традиционных ценностей, формирования критического мышления у молодежи, развития медийной грамотности и создания позитивных контрнарратив. Только на основе комплексного взаимодействия государства, общества и религиозных сообществ возможно преодоление угрозы религиозного радикализма.
Религиозный экстремизм, социокультурные процессы, глобализация, духовные ценности, радикализация, культурный кризис
Короткий адрес: https://sciup.org/14133960
IDR: 14133960 | УДК: 291.7:316:325:291.5:004 | DOI: 10.33619/2414-2948/119/43
Текст научной статьи Религиозный экстремизм в контексте социокультурных процессов современности
Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice
УДК 291.7:316:325:291.5:004
Религиозный экстремизм в XXI веке стал одной из наиболее острых проблем, глобальным вызовом, охватывающим различные регионы мира, включая Центральную Азию и Кыргызстан. Его проявления связаны не только с актами насилия и угрозами безопасности, но и с глубокими изменениями в духовной и культурной жизни общества. В условиях постсоветских социокультурных изменений религиозный фактор приобрёл особую значимость: возрождение религиозности совпало с кризисом традиционной духовности и ростом социальных противоречий. Социокультурные процессы современности — глобализация, цифровизация, миграция, трансформация традиционных ценностей — создают благоприятную почву для радикализации и распространения экстремистских идеологий. Философский анализ религиозного экстремизма позволяет рассматривать его не только как продукт социальных противоречий, но и как симптом кризиса идентичности и культурных ценностей, возникающего на фоне глобальных изменений.
Цель статьи Bishkek, Kyrgyzstan, рассмотреть религиозный экстремизм как социокультурный феномен, выявить его истоки в процессах глобализации, кризисе духовных ценностей и цифровизации, а также обозначить пути противодействия данному явлению.
Методологической основой исследования стали: цивилизационный подход, позволяющий рассматривать экстремизм в контексте столкновения традиционных и модернистских ценностей; аксиологический подход, акцентирующий внимание на кризисе духовных оснований и ценностной дезориентации; социокультурный анализ, выявляющий взаимосвязь экстремистских практик с глобальными и локальными трансформациями общества; компаративный метод, применённый при сопоставлении проявлений экстремизма в различных регионах мира.
Эмпирическую базу исследования составили: международные отчёты (ООН, ОБСЕ), статистические данные по Центральной Азии, а также труды современных исследователей в области философии, религиоведения и социологии.
Глобализация и кризис идентичности. Глобализация является одним из ключевых факторов, влияющих на социокультурные процессы современности и в значительной степени определяющих трансформацию религиозных практик. Она затрагивает все уровни социальной жизни — экономический, политический, культурный и духовный. С одной стороны, глобализация расширяет возможности межкультурного взаимодействия, усиливает интеграцию и способствует распространению демократических ценностей. С другой стороны, она порождает кризис идентичности, усиливающий социальную уязвимость и создающий условия для распространения экстремистских идеологий. Молодёжь в условиях культурной неопределённости теряет связь с традиционными ориентирами и часто обращается к радикальным идеологиям как к формам «устойчивого мировоззрения» [1].
В условиях глобализации традиционные общества, включая страны Центральной Азии, сталкиваются с процессом культурной унификации. Молодое поколение всё чаще ориентируется на глобальные модели поведения и потребления, в результате чего разрушается преемственность культурных и духовных ценностей. Потеря этнокультурных ориентиров создаёт «ценностный вакуум», который может быть заполнен экстремистскими интерпретациями религии.
Многие индивиды оказываются в ситуации «двойной идентичности»: с одной стороны, они принадлежат к традиционной культуре, основанной на религии, обычаях и коллективных нормах; с другой — к глобализированному миру, основанному на индивидуализме и либеральных ценностях [2]. Этот разрыв усиливает психологическую и социальную нестабильность, делая людей более восприимчивыми к радикальной пропаганде, обещающей «простые ответы» и возвращение к «чистой вере».
В условиях социально-экономических трансформаций значительная часть молодежи в Кыргызстане и других постсоветских странах оказывается маргинализованной - без устойчивых перспектив занятости, карьерного роста и культурной самореализации. Глобализация, усиливающая миграционные потоки и социальное расслоение, создаёт атмосферу неопределенности и отчуждения. Для многих экстремистская идеология становится способом самоутверждения и поиска групповой принадлежности.
Цифровизация и глобальные медиа-инструменты способствуют транснациональному распространению экстремистских идей. Интернет формирует особое пространство идентичности, где индивид может ощущать себя частью «мирового сообщества верующих», минуя локальные культурные и религиозные традиции [3]. Таким образом, глобальная информационная среда усиливает отрыв человека от конкретной национальной и культурной идентичности, что нередко ведёт к радикализации.
Социально-философский анализ показывает, что религиозный экстремизм в современном мире нельзя сводить только к социально-экономическим проблемам. Важнейшей предпосылкой его распространения является именно кризис идентичности — утрата человеком устойчивых ценностных и культурных ориентиров. Экстремизм предлагает радикальную форму «собирания идентичности» через принадлежность к закрытой и жёстко структурированной религиозной общине, противопоставляющей себя внешнему миру.
Кризис традиционных духовных ценностей. Одним из ключевых факторов, способствующих распространению религиозного экстремизма в современном обществе, является кризис традиционных духовных оснований. В условиях стремительных социокультурных трансформаций традиционные ценности, веками обеспечивавшие устойчивость и целостность общества, теряют своё значение или подвергаются переосмыслению. Это создаёт почву для радикальных идеологий, которые претендуют на роль «истинных хранителей духовности».
Исторически именно семья и родовая община были носителями духовных норм и культурных традиций. В Кыргызстане такие институты выполняли роль первичного механизма социализации, формировали устойчивые ценностные установки и обеспечивали преемственность поколений [4]. Однако процессы урбанизации, миграции и глобализации разрушают эти механизмы. Молодёжь, утратив связь с традиционными сообществами, оказывается в поиске новых форм идентичности, зачастую обращаясь к радикальным религиозным движениям, которые предлагают чёткие нормы поведения и коллективную солидарность.
В постсоветский период страны Центральной Азии пережили религиозное возрождение. Однако это возрождение часто сопровождается размыванием границ между традиционным исламом и новыми радикальными течениями [5]. Утрата авторитета традиционных духовных лидеров и распространение «импортированных» интерпретаций ислама ослабляют исторически сложившиеся формы религиозной жизни. Радикальные проповедники, используя кризис авторитетов, предлагают альтернативные модели религиозного поведения, которые нередко вступают в противоречие с культурными и национальными традициями.
Современное общество сталкивается с «ценностным плюрализмом», который, по выражению Ю. Хабермаса, нередко оборачивается «аксиологическим вакуумом» [6]. Для части населения это выражается в утрате ясных моральных ориентиров, что усиливает чувство нестабильности и неопределённости. Экстремистские движения, напротив, формулируют жёсткие и недвусмысленные нормы, привлекая тех, кто устал от неопределённости и фрагментарности культурного пространства.
Миграционные процессы усилили кризис традиционных ценностей. Для трудовых мигрантов характерен разрыв с культурной средой и духовными институтами родины. В диаспоральных сообществах экстремистские идеи могут восприниматься как средство сохранения идентичности и коллективной солидарности. Таким образом, миграция не только способствует трансформации ценностей, но и становится каналом транснациональной радикализации.
Философский анализ показывает, что экстремистские идеологии функционируют как суррогат традиционных духовных ценностей. Они имитируют форму традиции -предлагают ритуалы, нормы поведения, систему санкций и коллективную идентичность, - но наполняют её радикализированным содержанием. В этом проявляется двойственность религиозного экстремизма: он одновременно разрушает традицию и выдаёт себя за её «истинное возрождение». Цифровизация и новые каналы радикализации. В условиях информационного общества цифровая среда становится одним из ключевых факторов, влияющих на распространение религиозного экстремизма. Если в прошлом радикальные движения распространяли свои идеи преимущественно через локальные проповеди и межличностные контакты, то сегодня они активно используют возможности интернета, социальных сетей и цифровых медиа. Этот процесс радикально изменил механизмы вовлечения и расширил масштабы экстремистской пропаганды.
Платформы социальных сетей (Facebook, Instagram, TikTok, Telegram и др.) стали основным инструментом вербовки. Исследователи отмечают, что экстремистские организации используют психологические механизмы «групповой вовлеченности», создавая онлайн-сообщества, в которых пользователи постепенно приобщаются к радикальным идеям [7]. Особая привлекательность заключается в том, что молодёжь получает иллюзию участия в «мировом движении» и сопричастности глобальной миссии.
Алгоритмы социальных сетей подбирают контент в соответствии с интересами пользователя. Это усиливает эффект «информационного пузыря», когда индивид сталкивается преимущественно с радикализированным контентом, не имея доступа к альтернативным интерпретациям. Следовательно, цифровая среда сама способствует закреплению экстремистских взглядов, превращая их в часть повседневного информационного опыта.
Интернет обеспечивает анонимность и относительную безопасность для распространителей радикальной идеологии. В отличие от офлайн-проповедей, цифровая среда позволяет скрывать личность, быстро менять платформы и распространять материалы в транснациональном масштабе. Это делает цифровое пространство «идеальной площадкой» для экстремистских групп, которые активно используют мессенджеры и закрытые форумы для коммуникации и планирования.
Радикальные движения осознанно применяют методы эмоционального воздействия: профессионально смонтированные видео, мемы, визуальные нарративы и символику. Современные исследования показывают, что именно мультимедийный контент оказывает наибольшее влияние на молодежь, формируя не столько рациональное, сколько эмоциональное восприятие экстремистской идеологии. Особенностью цифровизации является то, что процесс радикализации может происходить полностью в виртуальной среде, без физического контакта с экстремистскими сообществами. Однако его последствия проявляются в офлайн-действиях — от участия в незаконных акциях до террористических актов. Это создает новую угрозу, когда экстремизм перестаёт быть локальным и превращается в глобальный транснациональный феномен.
Экстремизм как симптом культурного кризиса. Религиозный экстремизм следует рассматривать не только как политико-идеологическое явление или социальноэкономическую проблему, но и как симптом глубокого культурного кризиса современности. Он выражает собой напряжение между традиционными духовными ценностями и вызовами глобализированного общества, между стремлением к устойчивым идентичностям и размыванием аксиологических ориентиров. Современные общества переживают кризис модернизационного проекта, который, по Ю. Хабермасу, породил «расколдовывание мира» и секуляризацию [6].
Отказ от метафизических оснований и ослабление религиозных традиций привели к возникновению «ценностного вакуума», в котором многие индивиды ощущают утрату духовных ориентиров. Экстремизм, обещая «возврат к чистым истокам», эксплуатирует этот кризис. Одним из проявлений культурного кризиса является разрыв межпоколенной преемственности. Традиционные формы культуры — устное наследие, этнические обычаи, религиозные обряды — теряют свой интегрирующий потенциал [8].
В Кыргызстане, как и во многих странах постсоветского пространства, это связано с резкими социальными изменениями и миграцией В результате молодёжь лишается устойчивых точек опоры, а экстремистские движения предлагают им «новую традицию», созданную на радикальной основе. Социальные трансформации сопровождаются культурной травмой - ощущением потери культурных корней и обесценивания прежних символов. По концепции Д. Александера, культурная травма проявляется тогда, когда общество интерпретирует события как подрывающие его культурную основу [9].
Экстремизм отвечает на эту травму предложением жёсткой коллективной идентичности, противопоставляющей «своих» и «чужих». Экстремизм как культурный феномен выражается не только в идеологии, но и в эстетике: символике, лозунгах, ритуалах. Эти элементы формируют альтернативное культурное пространство, противопоставленное официальной культуре. В этом смысле экстремизм можно трактовать как субкультуру, привлекающую тех, кто ищет альтернативу «мейнстриму» и ощущает себя исключённым из господствующего культурного поля. Современная культура характеризуется плюрализмом и фрагментацией. Для части общества это является позитивным фактором свободы и выбора, однако для других - источником тревоги и утраты смысла. Экстремизм выступает реакцией на культурную фрагментацию, предлагая простую, недвусмысленную систему ценностей. Он компенсирует неопределённость жёсткой структурой и тотальной идеологией, что делает его привлекательным в эпоху кризиса.
Пути противодействия. Эффективная профилактика требует не только силовых и правовых мер, но и социально-философской работы с обществом: укрепления духовных ценностей, развития межкультурного диалога, повышения критического мышления в цифровой среде.
Противодействие религиозному экстремизму требует комплексного подхода, сочетающего правовые, социальные, культурные и образовательные меры. Борьба только силовыми методами оказывается недостаточной, поскольку экстремизм укореняется в глубинных кризисах идентичности и культурных трансформациях.
Государственная стратегия должна быть направлена на баланс между безопасностью и соблюдением прав человека. В Кыргызстане уже действует Национальная программа по противодействию экстремизму и терроризму (2023-2027), разработанная с участием ОБСЕ [10, 11].
Однако её эффективность во многом зависит от межведомственного взаимодействия, прозрачности процедур и доверия общества к государственным институтам. Образовательные инициативы должны включать курсы по религиоведению, философии, культурологии, а также развитие критического мышления у молодежи. Как показывает опыт Европейского Союза и стран Центральной Азии, программы «противодействия идеологическому экстремизму» наиболее успешны, когда они интегрированы в систему школьного и университетского образования [12].
В Кыргызстане особенно актуально создание межкультурных образовательных программ, которые сочетают национальные традиции с современными ценностями. Возрождение и поддержка традиционных духовных ценностей кыргызского народа (семья, уважение к старшим, взаимопомощь, единство) может служить культурным барьером против радикальных идей [13]. При этом важно не противопоставлять традиции современности, а интегрировать их в актуальный культурный контекст.
Поскольку цифровая среда является ключевым каналом радикализации, государственные и неправительственные структуры должны развивать программы цифровой и медийной грамотности. Это позволит молодежи критически воспринимать радикальный контент и распознавать манипулятивные технологии [14]. Также актуально создание «контрнарратива» в соцсетях: позитивных медиа-продуктов, транслирующих ценности мира, солидарности и взаимного уважения.
Эффективное противодействие невозможно без вовлечения гражданского общества, неправительственных организаций и религиозных объединений. Межконфессиональный диалог и развитие площадок для обсуждения проблем (форумы, общественные советы, локальные инициативы) создают атмосферу доверия и предотвращают радикализацию на ранних стадиях. Экстремистские движения часто используют социальные проблемы -бедность, безработицу, миграцию — как аргументы для вербовки. Поэтому важно сочетать идеологическую профилактику с решением социально-экономических проблем: поддержкой молодежи, мигрантов, сельских сообществ.
Выводы
Религиозный экстремизм является сложным социокультурным феноменом, коренящимся в кризисе идентичности, разрушении духовной преемственности и новых медийных практиках. В условиях глобализации и цифровизации он приобретает транснациональный характер, что делает его особенно опасным для государств с хрупкой социокультурной структурой, к числу которых относится Кыргызстан.
Противодействие экстремизму требует системного подхода: необходимо сочетать правовые меры с культурной и образовательной политикой, укреплять традиционные ценности, формировать критическое мышление у молодежи, развивать медийную грамотность и создавать позитивные контрнарративы. Только на основе комплексного взаимодействия государства, общества и религиозных сообществ возможно преодоление угрозы религиозного радикализма.