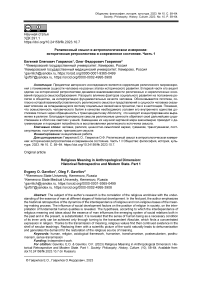Религиозный смысл в антропологическом измерении: историческая ретроспектива и современное состояние. Часть 1
Автор: Гаврилов Е.О., Гаврилов О.Ф.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 10, 2023 года.
Бесплатный доступ
Предметом авторского исследования является корреляция религиозного мировоззрения с пониманием сущности человека на разных этапах исторического развития. В первой части его акцент сделан на исторической ретроспективе динамики взаимозависимости религиозных и нерелигиозных оснований процесса смыслообразования. Раскрыто влияние факторов социального развития на положение религии в обществе, на интерпретацию фундаментальных качеств человека. Обосновывается гипотеза, согласно которой взаимообусловленность религиозного смысла и представлений о сущности человека оказывает влияние на складывающуюся систему социальных связей как в прошлом, так и в настоящем. Показано, что осмысленность человеческого бытия в качестве необходимого условия его внутреннего единства достижима только через обращённость к трансцендентному Абсолюту, что находит концентрированное выражение в религии. Благодаря трансмиссии смысла религиозные ценности обретают своё дальнейшее существование в оболочке светских учений. Замещение их научной картиной мира закономерно приводит к дегуманизации и порождает потребность в восстановлении религиозного источника смысла.
Человек, религия, ценностно-смысловой каркас, гуманизм, трансгуманизм, постсекуляризм, постгуманизм, трансмиссия смысла
Короткий адрес: https://sciup.org/149144024
IDR: 149144024 | УДК: 291.1 | DOI: 10.24158/fik.2023.10.7
Текст научной статьи Религиозный смысл в антропологическом измерении: историческая ретроспектива и современное состояние. Часть 1
Введение . Необходимой предпосылкой понимания смысла жизни, а также сущности человека является определение им своего места в системе координат природного и в большей степени социокультурного пространства. Под действием многообразных факторов – техногенных, геополитических, гуманитарных – эти связи заметным образом трансформируются, оказывая воздействие на область продуцирования смыслов, выделяя новые и затушевывая прежние грани человеческой природы. Особенно явно этот процесс развивается в области взаимодействия человека и религии, характер которого сегодня не поддается однозначному определению, поскольку оно в ходе исторической эволюции претерпело глубокие метаморфозы. Последние нуждаются в концептуальном выражении, что оказывается весьма проблематичным в связи с мно-гослойностью и дробностью современной культуры, где религиозное образует причудливые и неоднозначные сочетания с нерелигиозным, вера соседствует с безверием, а прежняя система координат подвергается значительной эрозии. Задачей данного исследования является реконструкция исторически обусловленных отношений религиозного смысла с вариантами понимания сущностных черт человека. Её решение станет необходимой предпосылкой определения роли религиозного смысла в развитии современного человечества.
Отношение религиозного и светского источников смысла в исторической ретроспективе . Наличие смысла является одной из основных потребностей человека. Религия обладает способностью придавать его человеческому существованию, что делает её особенно востребованной сегодня в условиях заметного дефицита смысла. В качестве религиозного источника последнего выступает потенциал веры и практикуемые в обществе процедуры сакрализации. Генерация смысла не только восполняет потребность человека в нахождении ориентиров в социальном пространстве или в универсуме, но также обеспечивает целостность внутреннего мира индивида. Смысл ценен сам по себе, и он же задает шкалу ценностей, что позволяет рассматривать производимый религией комплекс смыслов в качестве мировоззренческого ядра или каркаса, содержащего алгоритмы выделения и определения сущностных характеристик мира, общества и человека.
Уже в вариантах религиозного обоснования отношения творца и творения – целеполагание, подобие, противопоставление, сравнение ‒ видятся причины разнообразия моделей социальных взаимодействий и общественных структур. Не только формы духовной активности человека, но и его хозяйственная деятельность оказываются связанными с этим мировоззренческим ценностно-смысловым каркасом, выступающим в качестве необходимого условия их существования и реализации.
В нашем фрагментированном, полном острых противоречий социуме состояние целостности кажется утраченным или по крайней мере изначально не заданным. Современная действительность, скорее, препятствует, чем способствует холистским интенциям духовного мира субъекта истории. Даже природа самого человека отчасти вступает в конфронтацию с ними, поскольку характеризуется неукорененностью в наличном бытии, необусловленностью им (Гелен, 1988: 173). Но именно в силу этого качества человек достигает состояния внутреннего единства только в процессе порождения/обнаружения смысла собственного существования и, конечно, существования мира. Разнообразные интерпретации понятия смысла: логические, лингвистические, философские - в большинстве случаев указывают на него как на некую идею, которая полагает связь между явлениями определенного предметного поля, предписывает форму их бытия и обеспечивает целеполагание. Смысл является важнейшим условием внутренней согласованности духовного мира человека и его координации с феноменами внешней по отношению к нему реальности. В таком понимании смыслы часто выступают в качестве нематериальных сущностей материальных предметов. Ими человек наполняет все сферы социальной реальности, достигая тем самым необходимого синтеза мировоззренческих установок. Именно поэтому поиск смысла в виде целостной системы идей можно рассматривать как одну из главных, жизненно важных потребностей человека, связанную с самим способом его бытия. Смысл раз за разом нужно находить, но он всякий раз оказывается недостаточным для определения сущностных качеств индивида. Не будучи детерминированным найденным смыслом, он закономерно осуществляет регулярное повторение этого поиска.
Заметим, что связь религиозных представлений и человеческих качеств подмечает, например, Л. Фейербах, хотя и рассматривает её с материалистических позиций (Фейербах, 1995: 15, 33, 44, 60, 170–173, 209, 361 и др.). Но если философ делал вывод об отчуждении человеческих качеств в пользу трансцендентного начала и предложил сакрализовать их без посредства трансцендентного Абсолюта (Фейербах, 1995: 243–250, 355–356 и др.), то, продолжая этот тезис, мы можем сделать вывод не только об отчуждении, но и о закономерном возвращении этих качеств человеку без отказа от трансцендентного начала бытия именно в силу взаимной связанности трансцендирующего и трансцендентного. Сам Л. Фейербах, утверждая, например, что «божественная сущность как таковая осуществляется, проявляется только в человеке», видит и раскрывает эту взаимную связь, но при этом делает вывод о необходимости отказа от религиозного мировоззрения в пользу материалистической антропологии (Фейербах, 1995: 17, 209 и др.).
Иными словами, отчуждение возможно, но из этого не следует утрата человеком своих качеств в силу наличия своего рода механизма ретрансляции смысла, благодаря которому эти качества получают свое раскрытие именно в процессе трансцендирования. Проще говоря, если человек приписывает некие качества Творцу, то именно в силу этого он наделяет этими качествами и себя. Интерпретируя развитие представлений о трансцендентном как закономерный исторический процесс, можно сделать вывод о наличии взаимной связи трансцендентного с антропологическим имманентным. С этой точки зрения содержание представлений о трансцендентном, с одной стороны, производно от человеческих качеств, а с другой – именно благодаря транс-цендированию человеческие качества находят свое развитие, усложнение и совершенствование.
Тем не менее исторически происходит то, что можно обозначить как диалектическое отрицание трансцендентного источника смыслообразования, которое в силу своей диалектичности может быть понято как инобытие трансцендентного религиозного в светском. Этот процесс находит выражение в изменении интенсивности и масштаба религиозности общества, стран, отдельных социальных групп и позволяет исследователям говорить о стадийности или даже исторической цикличности развития религий1 (Нилогов, Сергеев, 2017: 123). В более широком смысле уместнее вести речь не о цикличности, а о диалектичности развития представлений о трансцендентном, в силу которой разрыв смысловой преемственности, то есть отказ от деления бытия на потустороннее и посюстороннее, сочетается с трансмиссией смысла в иной социокультурной среде и в иных социокультурных формах.
Эпоха новоевропейского модерна в качестве смыслопорождающего источника выбрала объекты посюстороннего бытия как поддающиеся рациональному объяснению, верификации и трансформации. Этот процесс, отчасти исторически обусловленный (Лёзов, 1995: 256; Кокс, 1995: 33–51; Бергер, 2003), отчасти вызванный мировоззренческими установками влиятельных групп своего времени, например, в лице представителей Просвещения, изменил место религии в обществе и в духовном мире человека. В ходе становления научной рациональности произошло её вытеснение из центра общественной жизни, понизилась важность религиозных смыслов в этической регламентации поведения. Заметным признаком смены мировоззренческой парадигмы стало утверждение науки в качестве универсального и объективного средства познания. В процессе десакрализации социума происходило, выражаясь словами М. Вебера, «расколдовывание» мира (Вебер, 1990), то есть лишение его мистических и «чудесных» параметров. С развитием процессов секуляризации именно наука начинает играть роль, прежде принадлежащую религии (уместно вспомнить выражение «храм науки», бытующее, по крайней мере, с прошлого века), формируя свой комплекс ценностно-смысловых ориентиров, находящихся в пределах имманентных человеку и природе явлений. Трансцендентный смысл, обязательный для религиозного мировоззрения, зачастую редуцируется к рационально постигаемым посюсторонним явлениям. Процессы секуляризации в той или иной степени затронули не только европейскую цивилизацию – в разное время в той или иной форме они проявили себя в развитии всего человечества, став одним из признаков современности (см., например: Бхаргава, 2014).
В период с XIX в. по настоящее время приобретает массовый характер убеждение о вто-ричности или даже побочности религиозного компонента в культуре и в процессах социального развития, а также о ложности религиозных представлений и о возможности иного обоснования ценностей (Докинз, 2008; Жижек, 2009: 6). Другими словами, формируется светская интерпретация явлений действительности, которая подразумевает наличие собственных (не трансцендентных) умопостигаемых оснований всех явлений материального и духовного мира. Легитимность и целостность собственного существования, социальной и природной реальности человек нашел в научной рациональности и светском гуманизме. Рассмотрим последствия элиминации трансцендентных абсолютов из социального пространства и замены их модусами наличной реальности для процессов смыслообразования и понимания сущности человека.
Пределы светских источников смысла. Ситуация постсекуляризма и постгуманизма . Смыслопорождающие источники, обладающие посюсторонней локализацией и опирающиеся на рациональную обоснованность своего статуса, конечно, способны в определенной степени конституировать внутренний мир человека, его повседневную жизнь. Да, на смену «умершему Богу» (Ницше, 1999) приходит вера в силы человеческого разума, в полной мере раскрывающие себя в неисчерпаемом и всеохватывающем потенциале научного познания. В эпоху Нового времени и отчасти в Новейшей истории всё массовым сознанием начинает восприниматься как наука или как техника, и только причастность к ним становится универсальным мерилом истинности, эффективности и даже реальности. Разум оказывается востребованным даже в обосновании всеобщности морали: ее «универсальность» получала свою легитимность отсылкой к законам мышления, прогрессивности общественного развития, природной разумности человека. В качестве посюсторонних источников морали обозначаются также обычаи, способ производства, стремление к счастью или наслаждению, личное или общественное чувство должного и т.д. Эти светские основания этических норм в большей степени, чем религиозные смыслы, поддаются измерению с помощью формализованных средств объективного анализа, что якобы еще больше подтверждает силу разумного начала.
Однако светский характер источников смысла лишил его и основанные на нем ценности прежних определенности и константности. По мере развертывания процесса секуляризации и распространения светского толкования явлений происходит перерождение мировоззренческого каркаса, что нередко находит выражение в крайностях ксенофобии и вседозволенности, в редукции духовного к биологическому, этического к юридическому и т.п. Кроме того, отказ от трансцендентного измерения лишил сами светские источники смысла их эксклюзивного характера. То, что понималось в рамках религии как единое смыслообразующее начало, трансформировалось в светском мировоззрении во множество равноценных начал, существующих независимо друг от друга. Так, нравственные нормы в границах различных групп приобретают заметную автономность. Искусство, экономика, политика также утрачивают ценностную близость, обретают собственные основания. В свою очередь акторы политической активности, субъекты экономической деятельности, представители искусства демонстрируют тенденцию к освобождению от морали, а она сама избавляется от религиозных оснований и воспринимается отныне как сумма условных регулятивов, поддающихся произвольной модификации. В самых разных сферах общественной жизни в качестве доминанты утверждается мировоззренческий релятивизм.
Константность и определенность смыслопорождающих оснований подвергались эрозии постепенно. Успехи науки, построение новых, основанных на конституциях, политических систем, рост производительности технически усовершенствованного труда долгое время были источниками оптимизма и убежденности в возможностях человека. Это способствовало сохранению внутренней согласованности его духовного мира. Однако сегодня релятивность смыслопорождающих оснований видна во всём. Разум, законы природы, идеалы гуманизма осознаются как нечто условное.
Убеждение, что в скором времени силе разума ничто не сможет противостоять, не подтвердилось. Ограниченность рациональности в постижении мира последовательно утверждалась уже в некоторых философских концептуализациях Нового времени и в вариантах иррационализма XIX–XX вв. Критика восприятия науки как наиболее оптимального способа рационального и формализованного способа освоения мира осуществляется в некоторых версиях феноменологии, постпозитивизма, социологии знания и ряда других учений ХХ столетия. Получает распро- странение трактовка науки как «мифа современности» или насильственно навязанной человечеству идеологии (Фейерабенд, 1986: 450; 2010: 153, 157). Она, как пишет П. Фейрабенд, «господствует не благодаря своим достоинствам, а благодаря жульнической рекламе» (Фейрабенд, 2010: 152). Идеологичность науки раскрывает Ю. Хабермас (Хабермас, 2007: 109–110; см. также об этом: Гаврилов, Гаврилов, 2020: 48–54).
В свою очередь и гуманизм как идейная основа совершенствования человека и мерило этических принципов обнаруживает свою условность уже в титанизме эпохи Возрождения (Лосев, 1982: 120–138), затем – в нигилизме XIX в., прометеизме теоретических построений русских кос-мистов, революционных преобразований начала XX в. (Мелих, Введенская, 2007) и, наконец, в постмодернизме второй половины XX в. (Лиотар, 1998).
Светские источники смыслов в ходе исторического развития продемонстрировали выраженную релятивность и в конечном счете способность фактического перерождения в свою противоположность. Наука, став условием превознесения человеческого интеллекта, в современных теоретических построениях вообще устраняет индивида из процесса познания (характерна вошедшая в обиход постмодернистская концептуализация – «смерть субъекта»), что позволяет некоторым специалистам говорить о «бесчеловечности» научного знания не только в смысле его антигуманности (Порус, 2007: 64–65). Кроме того, устранение в рамках научной интерпретации действительности трансцендентного религиозного источника смысла для достижения верифицируемого познавательного результата позволяет другим исследователям сделать вывод о «бессмысленности» научного знания (Гуссерль, 2004: 20–21, 28–36, 87, 107 и др.; Ирхин, Кацнельсон, 2003). Противопоставление его осмысленности человеческого бытия порождает сомнение в безусловности суждений представителей частных наук, чему в немалой степени способствуют ограниченные возможности научной верификации и научного языка как такового.
«Бесчеловечность» и «бессмысленность» частных наук сегодня используются разработчиками сценариев развития общества для концептуальной отмены человека как уникальной сущности и как неприкосновенной целостности. Следствием этого становится нарастание процессов дегуманизации в различных сферах жизни общества. В то же время находит выражение потребность в восстановлении мировоззренческих оснований человечности как особого, не подлежащего элиминации или упразднению качества. Кроме того, нельзя сказать, что тенденция к релятивизации содержания культуры, в том числе и в её светском варианте, приводит к исчезновению представлений о трансцендентном как смыслопорождающей реальности. Более того, современное общество нельзя назвать безрелигиозным. Неслучайно вместо этого термина для обозначения современного состояния социума специалистами используется понятие постсекулярного (Узланер, 2011; Крыжелев, 2011). Введение этого понятия является следствием признания наличия ситуации перехода от массового нерелигиозного мышления к тем или иным формам возрожденной религиозности, выражающим массовую социальную потребность. Сама она перестает носить имплицитный характер и приобретает эксплицитные формы своего выражения. Тем не менее процесс смысло-образования как необходимое условие самоидентификации человека в современном обществе имеет отличие от периодов доминирования и упадка религиозного мировоззрения. Именно поэтому современную эпоху можно считать как постгуманистической, так и постсекулярной.
Выводы и дальнейшие перспективы исследования . Таким образом, исторически религия играла роль источника и способа формирования ценностно-смыслового каркаса, в рамках которого и определялись сущностные контуры человека. В ходе истории процесс смыслообразо-вания претерпевал глубокие трансформации, что становилось причиной переопределения представлений о человеке. Если религия посредством трансцендентных смыслов придавала индивиду ощущение внутренней цельности и согласия с миром, то попытки ограничить смыслы рамками профанной реальности, хотя и были исторически закономерными, привели к последствиям в виде релятивизма и кризиса гуманизма. Человек утратил чувство основательности и безусловности своего бытия, что в конечном счёте определило возврат к осознанию ценности трансцендентного измерения бытия, жизни современного общества.
Развитию представлений о взаимозависимости религиозных источников смысла и сущностных черт человека в эпоху постгуманизма и постсекуляризма будет посвящена вторая часть данного исследования.
Список литературы Религиозный смысл в антропологическом измерении: историческая ретроспектива и современное состояние. Часть 1
- Бергер П. Религия и проблема убедительности // Неприкосновенный запас. 2003. № 6 (32). С. 5–20.
- Бхаргава Р. Индийская модель секуляризма: контекстуальность и принципиальная дистанция // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2014. Т. 32, № 2. С. 248–264.
- Вебер М. Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира // Избранные произведения. М., 1990. С. 306–334.
- Гаврилов Е.О., Гаврилов О.Ф. Миф и религия: исторические и содержательные аспекты сравнения // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2017. № 39. С. 88–101. https://doi.org/10.17223/1998863X/39/10.
- Гаврилов Е.О., Гаврилов О.Ф. Утопия и идеология как формы социального проектирования: закономерности функционирования // Модусы социального взаимодействия: концепты идентичности, духовного опыта, общественных преобразований. Кемерово, 2020. С. 10–73.
- Гелен А. О систематике антропологии // Проблема человека в западной философии. М., 1988. С. 152–202.
- Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. Введение в феноменологическую философию. СПб., 2004. 400 с.
- Докинз Р. Бог как иллюзия. М., 2008. 560 с.
- Жижек С. Кукла и карлик: христианство между ересью и бунтом. М., 2009. 336 с.
- Ирхин В.Ю., Кацнельсон М.И. Крылья Феникса. Введение в квантовую мифофизику. Екатеринбург, 2003. 264 с.
- Кокс Х. Мирской град: секуляризация и урбанизация в теологическом аспекте. М., 1995. 263 с.
- Красиков В.И. Метафизика, трансцендирование, самоопределение: философия как форма личностной самореализации // Credo New. 2020. № 3 (103). http://credo-new.ru/archives/2181 (дата обращения: 05.10.2023).
- Крыжелев А. Пост-секулярное: краткая интерпретация // Логос. 2011. № 3 (82). С. 100–106.
- Лёзов С. Христианин в обезбоженном мире // Кокс Х. Мирской град: секуляризация и урбанизация в теологическом аспекте. М., 1995. С. 256–262.
- Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. М.; СПб., 1998. 160 с.
- Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М., 1982. 623 с.
- Мелих Ю.Б., Введенская Е.В. Падение идей, или прометеизм Николая Федорова // Философские науки. 2007. № 3. С. 89–110.
- Нилогов Н.С., Сергеев М.Ю. Теория религиозных циклов. Беседа в рамках проекта «Современная русская философия» // Философские науки. 2017. № 1. С. 120–131.
- Ницше Ф. Веселая наука. М., 1999. 574 с.
- Порус В.Н. О разногласиях между алармистами // Эпистемология и философия науки. 2007. Т. 13, № 3. С. 61–65.
- Узланер Д. Введение в постсекулярную философию // Логос. 2011. № 3 (82). С. 3–32.
- Фейерабенд П. Наука в свободном обществе. М., 2010. 378 с.
- Фейерабенд П. Против методологического принуждения // Избранные труды по методологии науки. М., 1986. С. 125–466.
- Фейербах Л. Сочинения: в 2 т. М., 1995. Т. 2. 425 с.
- Хабермас Ю. Техника и наука как «идеология». М., 2007. 208 с.