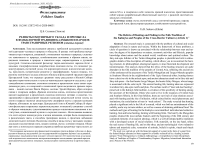Реликты охотничьего уклада и промысла в фольклорной традиции калмыков и народов трансграничных регионов. Статья первая
Автор: Селеева Цаган Бадмаевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Фольклористика
Статья в выпуске: 2 (53), 2020 года.
Бесплатный доступ
Тема исследования связана с проблемой культурной и социальной адаптации человека в природе и обществе. В рамках этой проблемы вычерчивается круг вопросов, связанный с отношением человека и природы, степенью его зависимости от природы, хозяйственными занятиями и образом жизни, народными знаниями о природе и животном мире, мировоззрением и духовной культурой. Сказочно-эпический фольклор тюрко-монгольских народов богат и насыщен этнографическими подробностями описания охоты, что позволяет реконструировать охотничий уклад, его мировоззренческие, идеологические аспекты, проследить историческое развитие и трансформацию. Анализ показал, что реликты охотничьего уклада довольно обильны в фольклорной традиции народов Центральной Азии, что отражает древнюю эпоху расселения в Южной Сибири предков тюрко-монгольских и тунгусо-маньчжурских народов в соседстве с угро-самодийскими племенами; охотничья тематика в архаическом эпосе имеет определяющую роль, а в сказочной и несказочной прозе выделяются древние персонажи - пеший охотник Йовгн Мерген, охотник Эрхий-Мергена, образ которого связан с солярным мифом. Древняя охотничья жизнь, охотничьи представления находят выражение в архаических сказочно-эпических мотивах и сюжетах. Сохранившийся в фольклорной традиции калмыков архаический мотив «охоты на оленя и марала» является свидетельством специфики охоты у предков калмыков ойратов, обитавших на просторах Центральной Азии и Южной Сибири. В ойратском фольклоре сохранились пережитки родовых отношений, связанные с охотой и обрядом инициации, существовавшими прежде социальными явлениями и институтами, социализацией мужчин в «мужских союзах». Исследование выявило, что охота играла значимую роль в жизни кочевника, которая была одновременно и развлечением знати, и способом тренировки воинов, и средством добывания дополнительного питания. Выделены способы и виды охоты у калмыков: индивидуальная и коллективная охота, пешая и конная, охота с ловчими птицами. Облавная охота у монгольских народов сохраняла наиболее архаичные черты вплоть до начала XX в. и содержала в себе элементы древней идеологии, представляющей собой хорошо разработанный общественный институт с развитой системой социальных отношений.
Охота, охотничий уклад, охотничий промысел, народы центральной азии, фольклорная традиция, хозяйственно-культурный тип
Короткий адрес: https://sciup.org/149127446
IDR: 149127446
Текст научной статьи Реликты охотничьего уклада и промысла в фольклорной традиции калмыков и народов трансграничных регионов. Статья первая
Предлагаемая статья является первой частью исследования реликтов традиционной охоты, нашедших отражение в фольклоре калмыков и тюрко-монгольских народов Центральной Азии и Южной Сибири, сквозь призму реконструкции в их историческом развитии и трансформации. В этой части изысканий мы сосредоточим внимание на рассмотрении ранних форм хозяйствования, способов и видов индивидуальной охоты (пешей, верховой и псовой), а также фольклорном осмыслении древней охоты.
Хозяйственные занятия, явившиеся гармоничной формой адаптации человека к окружающей природной среде, определяли образ жизни народов Центральной Азии и Южной Сибири (кочевой, полукочевой, оседлый, полуоседлый). Чаще всего в хозяйственном комплексе превалировали одна или две отрасли, что наложило отпечаток на культуру каждого народа.
Различным у кочевников-скотоводов было соотношение кочевого скотоводства с охотой, выступающей подсобным занятием. В этнографии сложилось традиционное мнение о достаточно высокой роли охоты в хозяйстве кочевых народов Южной Сибири [Потапов 1984; Вайнштейн 1973; Марков 1976]. «С возникновением кочевого скотоводства охота входит составной неразрывной частью в комплексное хозяйство и играет немаловажную роль в новом хозяйственно-культурном типе, сохраняя при этом некоторые элементы материальной культуры предыдущего периода развития, и определяет, как следствие, сохранение некоторых архаичных форм идеологии» [Жамбалова 1991, 5].
Суть научной проблемы заключается в реконструкции особенностей охотничьего хозяйственно-культурного типа, которые сохранились в виде реликтов в культуре кочевников тюрко-монгольской общности. Исследование традиционной охоты у тюрко-монгольских народов дает возможность проследить ее историческое развитие и трансформацию. Целью исследования является изучение реликтов охотничьего уклада и промысла, нашедших отражение в фольклоре и традиционной культуре калмыков и народов трансграничных регионов.
Наряду с рыболовством и собирательством охота относится к ранней форме хозяйствования, претерпевшей эволюционные изменения в ходе исторического процесса. Изменение охотничьего хозяйствования было связано со сложением разных этнических общностей и миграцией племен и народов, что создало предпосылки для возникновения локальных вариантов человеческой культуры, обусловленных, прежде всего, многообразием источников существования на осваиваемых человеком территориях - лесных охотников и равнин аридной зоны.
На этнической территории монгольских народов исторически складывалась и взаимодействовала культура степных и «лесных» племен, что и определило в последующем своеобразие хозяйственно-культурного комплекса кочевников-скотоводов данного ареала обитания. Выход монголоязычных племен в степные районы способствовал переходу от охотничьего типа хозяйства к кочевому скотоводству
В XI XIII вв. основная часть монголов занималась кочевым скотоводством. Вместе с тем в их жизни определенную роль продолжала играть охота. Плано Карпини сообщал о монголах XIII в.: «Мужчины ничего вовсе не делают, за исключением стрел, а также имеют отчасти попечение о стадах; но они охотятся и упражняются в стрельбе» (см. Карпини П. История монголов) [цит. по: Батмаев 1993, 129]. Гильом де Рубрук считал, что «охотой они добывают себе значительную часть своего пропитания» (см. Рубрук Г. Путешествие в восточные страны) [цит. по: Батмаев 1993, 129]. Марко Поло, подтверждая наблюдения своих предшественников, также замечал: «Мужья ни о чем не заботятся; воюют да с соколами охотятся на зверя и птицу» [Книга Марко Поло 1956, 88].
Монгольский историк Чулууны Далай, рассматривая монгольское общество XIII XIV вв., приходит к следующим выводам: «Охоту у монголов в то время можно подразделить на два вида, которые следует назвать “большие облавные охоты” и “охота за дичью”, служившая подспорьем в хозяйстве простых аратов. Простые монгольские араты стремились с помощью охоты лишь дополнить свои средства существования. Всюду араты, имевшие скоты, одновременно промышляли дичью, увеличивая свой рацион повседневного питания» [Далай 1983, 90].
По данным средневековых письменных источников, доминирующей хозяйственной деятельностью степных монголоязычных племен в XI в. являлось кочевое скотоводство, а в периферийной зоне центрально-азиатского кочевого мира обитали звероловческие («лесные») племена. Понятие «лесные племена», не определяли этнической принадлежности, а указывали на место обитания и связаны с типологизацией по хозяйственно-культурному признаку [Жамбалова 1991, 6].
В «Сборнике летописей» Рашид-ад-дина и «Сокровенном сказании» указано, что монгольские племена были разделены на две группы, сообразно их образу жизни и ведению хозяйства: на группу племен лесных, или «звероловных», и на группу степных, или скотоводческих. Монгольские «лесные» племена жили в ту пору у озера Байкал на верховьях Енисея и по Иртышу; степные скотоводы кочевали на больших пространствах по степям и горным пастбищам, начиная от местности, лежащей у озера Кулун-Буир, вплоть до западных отрогов Алтайских гор. Часть монголов-скотоводов обитала и еще южнее, расположившись по ту сторону Гоби, близ китайской великой стены. Среди монгольских племен встречались и такие, которые принадлежали и к степным, и к лесным, одновременно [Владимирцов 2002, 328-329].
Генетическое родство современных калмыков с «лесными народами» определяется территориальной общностью предков калмыков ойратов. Истоки этногенеза средневековых ойратов и их потомков калмыков ухо-
дят в глубокую древность, связаны с древнейшими протомонгольскими племенами Центральной Азии и сложением древнеойратского племенного союза в верховьях Енисея и Прибайкалья [Авляев 2002, 182; Санчиров 2004].
Калмыки издавна занимались охотой и рыболовством как хозяйственными подсобными занятиями. Процесс охоты у калмыков носит название ацНучллНн - от общего названия зверей ац. Стереотипы наблюдения человека за природой, зверями, представления об охоте находят отражения в пословицах и поговорках калмыков:
Чон кегшрхлэрн тег бэрдг [Пословицы... 2007, 599] (Когда волк дряхлеет, он предпочитает держаться ближе к степи); Кегшн чон нег хеенд эзн [Пословицы... 2007, 600] (Старый волк справится лишь с одной овцой); Хулжн туула Ьурвн кевтурто [Пословицы...2007, 603] (У трусливого зайца три лежбища); Уулд еернь герое идж, уенд ееР 3ahc ИДХ [Пословицы... 2007, 597] (Близко расположенные к горе питаются мясом зверей, а близко расположенные к воде-рыбой); Эомг меддг уга зоосц ширдг элодг / Ац бордг уга ноха хот хорадг [Пословицы... 2007, 597] (Зайсан, не знающий своих владений, протирает войлок, на котором сидит, / Собака, которая не ловит зверей, только переводит пищу); Базхулх кун барсин мер мерддг [Пословицы... 2007, 599] (Кому быть помятым, тот идет по следу барса); Ацчн ац эрж, / Адучн белчор эрно [Пословицы... 2007, 604] (Охотник ищет зверя, / Табунщик - пастбище); Хотарн орсн геросиг / Хаж авен мергн -мергн биш [Пословицы... 2007, 606] (Неметкий стрелок, кто застрелил зверя, / Случайно забежавшего в хотон).
Древняя охотничья жизнь, охотничьи представления находят выражение в архаических сказочно-эпических мотивах превращения в фольклоре монгольских народов. Связанность с охотничьей жизнью обуславливает превращения героев в различных зверей и птиц (в оленя, в джейрана, в белку, в горностая, в ястреба, в орла и т.д.). Типическими являются фольклорные мотивы превращения героя в определенного зверя или птицу, чтобы пересечь океан, земные пространства, взобраться на горную вершину, поймать душу мангаса.
В калмыцкой сказке «Куукн баатр» («Девушка-богатырь») происходит превращение зайца из куска сваренной заячьей печени:
Как-то утром богатырь Дамбин Улан отправился он на охоту. С утра до обеда был он занят погоней за зайцем, поймал, принеся домой, снял с него шкуру и поставил вариться. Вдруг из кипящего чана выпал кусок печени на шкуру и, превратившись в зайца, убежал [Хальмг туульс 1972, 97] (перевод калмыцких сказочных эпизодов здесь и далее авторский).
Обилие и легкость, характер превращений в зверей и птиц переносит нас в область древнейших представлений архаического родового общества. К этим древним представлениям относит нас и обилие образов-вест- ниц в улигерах. Разные птицы (сороки, вороны, орлы) человеческим голосом (речью) извещают героев об опасности, о том, что происходит в стане врагов или у них дома [Уланов 1963, 108].
В сказках не только птицы, но и звери владеют человеческой речью, обладают сокровенным знанием и дают советы. В калмыцкой сказке «Нал хаана Отхн Шар ковун» («Отхон Шара, сын Гал-хана») пойманный на охоте заяц приносит герою весть о суженой:
Младший сын хана Гала все время охотился. Как-то выехал Отхон Шара на охоту пострелять зверя и птицу. Во время охоты выскочил заяц и помчался. Отхон Шара погнался за зайцем. Гнался и когда настиг, заяц спросил: «Предпочтешь мои сокровенные слова или чашу мяса и шкурку мою размером с ладонь?» Юноша, подумав, ответил: «Послушаю твои сокровенные слова». Заяц сказал: «Суженая твоя живет у горизонта, там, где сливается земля с небом» [Хальмг туульс 1961, 159].
В древности люди наделяли зверей магическими и человеческими качествами, считали, что звери способны понимать человеческую речь.
В синьцзян-ойратской сказке «Генуи куукн» («Девушка-бродяжка») говорится о чудесной птице, пойманной охотником. Чудесное свойство птицы заключено в ее внутренних органах - сердце и печени. Отведавший их первым наделяется чудесным качеством - выплевывать золотые и серебряные монеты:
В давние времена жил один охотник. В течение многих лет охотился он на зверей и птиц, что стал различать и узнавать их. Было у охотника два сына и дочь. Однажды охотился он в лесу и заметил крупную птицу, сидевшую на вершине высокой сосны. Стрельнул по ней, - сломав ветви, пристреленная птица рухнула вниз. Никогда не встречал он такой крупной птицы. Взвалив на спину, понес, а крылья ее волочились по земле, [такой крупной она была]. Еле донес птицу в аил.
Птицу увидел шаман из аила. И дал строгий наказ охотнику - отделить печень и сердце этой птицы и сварить отдельно, поскольку эти органы якобы отравлены и прежде чем есть, ему следует почитать заклинания. Охотник, последовав наказу шамана, отделил печень с сердцем и поставил вариться отдельно. Тут с улицы забежали игравшие сыновья, один отрезал кусок от печени съел, другой от сердца, матушка поругала их, и они убежали. Играя, стали плеваться - из одного вышло золото, из другого серебро [Хан Тецгр 1981, 130-138].
В зачине калмыцкой богатырской сказки, как правило, говорится о занятиях главного героя. Одним из любимых его дел является охота:
Богатырь Барс Мерген каждый день выезжал поохотиться на зверей и птиц, настреляв зверя-лисицу, привозил [со словами]: «У почтенного нойона баавы руки замерзли, торока покраснели» [Хальмг туульс 1961, 173].
Одним из занятий героя ойратской эпопеи Дайни Кюрюля также является охота:
В сказании «Кангшывай-Мерген» и «Алдай-Буучу» охотой занимаются не только основные герои, но и другие персонажи. Так, Кангывай-Мер-ген спрашивает у ханши Авыкай-Сарала: «Куда твой молодец уехал - на зверя охотиться или воевать?». Об Албасы и Шулбусе в сказании «Алдай-Буучу» их подданные сообщают: «Вот уже три года прошло, как они уехали охотиться в самую далекую тайгу Арзайты-Шиль» [Гребнев I960, 78].
Охотничий уклад отражен в тунгусо-маньчжурских и обско-угорских богатырских сказках [Патканов 1891, 34-35]. Сходная картина наблюдается у северных якутов в жанре так называемого хосунского эпоса (хосун -богатырь-охотник), имеющего тунгусский генезис, но получившего самобытную разработку уже в якутском фольклоре [Гурвич 1977, 150-171]. Показательно, что именно охота на диких оленей и лосей изображается здесь занятием особенно почетным, тогда как вид богатых оленеводов в таежных версиях эпоса зачастую имеют враги героя [Гурвич 1977, 3, 62]. Точно так же - у хантов, у которых «охота за лосем считалась занятием благородным, достойным князей и даже их божества» [Патканов 1891, 31]; существовали мифологические сюжеты «небесной охоты» и погони за космическим оленем или лосем в Северной Евразии [Неклюдов 1980].
Истоки архаического фольклора восходят к охотничьим традициям. Многочисленные случаи поиска героя, чудовища по следу, указания на следы птиц также говорят об охотничьих представлениях и жизни. Сказывается привычка охотника идти по следу зверей, читать следы. Также нередко в бурятских улигерах герой нарочито оставляет за собой «читаемые» другими следы - затесы, надписи. По мнению А.И. Уланова, в бурятском эпосе, особенно в эхирит-булагатских улигерах, прослеживается охотничья звероловная основа [Уланов 1963, 108]. Следует подчеркнуть, что мифология эпоса также надолго удерживает свой охотничий колорит; так, жилище из шкур и костей в ойратском эпосе есть остаток охотничьего прошлого в ойратском и - шире - монгольском эпосе [Владимирцов 1923, 51].
Элементы архаической мифологии, отдельные матриархальные образы, а также реликты охотничьего уклада довольно обильны в фольклорноэпических традициях монголов. При этом охотничья тематика - на первых порах, - играет в эпосе определяющую роль [Неклюдов 1996: 19]. Важное место в бурятском эпосе, по мнению Уланова, занимает архаический мотив приручения коня, собаки, птицы Хэрдиг, орла, иногда и других животных, подчеркивающий, что охота героев улигеров - древняя охота, от- носящаяся к доскотоводческому периоду, к началу эпохи приручения животных. Об этом говорит то, что герой постоянно братается то с собакой, то с другим животным, то с богатырем, те. собаки, кони и люди рисуются равными, порой кони по уму, по знанию превосходят героев, спасают, учат их, предсказывают им. Такое «равенство» невозможно в условиях развитого скотоводства. И оно имеется в большинстве улигеров, сопутствует почти всем героям, делает их представителями, образами древней эпохи, эпохи звероловной жизни и собирательства [Уланов 1957, 106]. В калмыцкой богатырской сказке встречаем архаический мотив приручения человеком диких животных (медведя и барса): «Богатырь Барс Мерген у дверей [дворца] установил стражу из медведя и барса» [Хальмг туульс 1961, 175].
Сравнительно широкий размах охота имела у предков калмыков ой-ратов, когда они обитали на просторах Центральной Азии и Южной Сибири, где животный мир был богаче и разнообразнее фауны приволжских степей. Об этом свидетельствуют сохранившийся в фольклорной традиции калмыков архаический мотив «охоты на оленя и марала». Интересен сюжет песни «Ах ду хойр мергн ковунэ туск тууль» («Сказание о двух братьях-стрелках»), повествующий о двух искусных братьях-стрелках, живших с матерью и охотившихся в лесу на оленя и марала. За ловкость и меткость их ценили в роду. Имя старшего неизвестно, а младшего звали Чююдя Цаган. Однажды младшему сыну из шкуры оленя мать сшила шубу, чтобы звери, думая, что это олень, не пугались и не бежали. Как-то Чююдя Цаган в шубе из оленьей шкуры вместе с братом отправился на охоту. Пока младший лежал и выслеживал оленя и марала, старший, приняв его за зверя, застрелил. Поняв, что убил брата, плача, возвратился он домой. Сожалея и горюя, в память о младшем брате он сочинил песню:
Цусн зеерд мернь / Красно-рыжий конь его
Цулвурикэн унжулж оольна. / С опущенным поводом бежит прочь.
Чуудэ-ла Цакан-ла чэмэкэн / Чююдя Цаган, тебя я,
Ац мет харвув. / Как зверя, застрелил.
Букин арен девлиг / Оленью шубу,
Уяд суусн ээж[ин] / У матери, что сидела и шила,
Бульчнгнь тасрсн болхнь. / Порвалась бы лучше мышца [на руке].
Чуудэ-ла цакан-ла киилгичн / Чююдя Цаган, рубаху твою, Цустакинь авад канзкллав. / Кровавую, приторочил я к седлу.
Цустакинь авад канзклв чигн, / Хоть я и приторочил кровавую [рубаху], Куцгдшго казрт одвч / Ты уже ушел в недосягаемые земли.
[Ф. 16. On. 1. № 160 (1)] (перевод авторский).
В сказке «Сэрсн бортх девлтэ Сэр гидг ковун» («Юноша Сяр в шубке из овчины») мотив «охоты на марала» является испытанием для неугодного зятя Сяра, осмелившегося жениться на ханской дочери:
Недовольный выбором дочери, хан решил избавиться от неугодного младше-

го зятя. Притворившись тяжелобольным, по рекомендации лекаря, потребовал добыть для него мясо марала. При этом хан велел дать Сяру плохого коня, предназначенного для перевозки воды и плохонькое ружьишко. Старшему зятю распорядился дать добротного коня и хорошее ружье.
Сяр отправился на охоту и благополучно подстрелил марала. Когда он разделывал тушу, прибыл старший зять и посетовал о том, что он два дня охотится и не повстречал ни одного марала. Попросил от туши дать ему две ноги. Сяр, произнеся про себя заговор «Пусть туша без внутренностей будет ядом, а внутренности будут аршаном», отдал все мясо. Хан, поев мясо принесенное старшим зятем, заболел еще сильнее. Младший зять возвратился и привез внутренности марала, жена приготовила и отнесла хану-отцу. Хан подумал, что младший зять подобрал внутренности марала, забитого старшим зятем. Решив попробовать немного, съел все, настолько вкусными оказались внутренности марала [Хальмг туульс 1961, 108].
Довольно популярным в сказочно-эпической традиции калмыков и ой-ратов Синьцзяна является мотив «отдыха богатыря в пути», с описанием приготовления и поедания пищи из мяса марала и оленя:
Мазан-батыр как-то припозднился в пути и остановился на ночлег в районе Каспия на трех холмах Самбара. Натянул он шатер, сварил чай, растопил огонь, туши оленя и марала зажарил, поел и заснул, раскрасневшись как тамариск, растянувшись как ремень [Хальмг туульс 1968, 133].
Будя Мерген божественного зеерде [скакуна] своего привязал, [туши] оленя и марала зажарил и лег [отдохнуть]. Выпил остывшего чаю, разжег огонь без дыма, съел мясо оленя и марала, выведя большие кости через рот, мелкие через рот, <.. > отправился в путь [Хальмг туульс 1961, 159-166].
В XVII-XVIII вв. охота регулировалась в кодексе монголо-ойратских законов «Великое уложение» («Иэкэ цааджин бичиг»), принятом в 1640 г. на съезде монгольских и ойратских владетельных князей и крупных феодалов Халхи, Джунгарии, Кукунора, а также волжских калмыков, которым должны были руководствоваться монгольские народы. Подробный обзор об этом дает М.М. Батмаев: «В нем устанавливались наказания за кражу тигровой, леопардовой, выдровой, волчьей рысьей, росомашьей, бобровой, соболиной, лисьей, беличьей, корсачьей и горностаевой шкурок. Надо полагать, что все эти шкуры или же большинство из них становились достоянием хозяев в результате охоты. Как объекты охоты фигурируют так- же дикая кошка, манул (род лисицы), дикие козы, антилопы. Упоминаются и орудия охоты, кроме, естественно, лука и стрел: капканы, самострелы, а также ловчие птицы. Здесь перечисляются некоторые правила облавной охоты. Наконец, из законов 1640 г. мы узнаем о существовании княжеских (нойонских) заповедных мест, охота в которых без дозволения владельца каралась штрафом» [Батмаев 1993, 129].
В XVII веке калмыки сменили ареал обитания и перекочевали из Центральной Азии в земли Северного Прикаспия. Калмыки и здесь занимались охотой, хотя скудность растительности и недостаток воды обусловили сравнительную бедность животного мира калмыцкой степи.
В XVII XVIII вв. охота для основной массы калмыцкого населения была нерегулярным источником дополнительных средств существования, а для феодальной знати более всего видом развлечения. Нойон Досанг, улусы которого в первой половине 20-х гг. XVIII в. были разорены в междоусобной борьбе, настойчиво просил у русской администрации пороху и свинца для охоты на диких лошадей с целью пропитания своих подвластных. Орудия охоты за истекшее столетие не претерпели никаких изменений, неизменным оставались и ее методы [Батмаев 1993, 130].
Способы и виды охоты. Основу дифференциации традиционной охоты составляет разный характер ее назначения. Охота на мясного зверя обеспечивает продуктами питания и сырьем одновременно; пушная охота направлена на добычу товара, необходимость в котором появляется с развитием рынка сбыта. Мясопушная охота была представлена активной и пассивной формами. Зверей охотники выслеживали, для чего важно было знать образ жизни животных, их повадки, места лежбищ, выпасов, водопоев и звериные тропы [Жамбалова 1991, 31].
Охота, как об этом можно судить по фольклорным источникам, была пешей и верховой/конной, индивидуальной и коллективной.
Пешая охота была более ранним видом и, конечно, менее эффективной, чем конная. Пешком охотились на ближнем расстоянии, недалеко от дома, пешая охота считалась уделом бедняков.
В калмыцкой фольклорной традиции, в преданиях и сказках встречается довольно популярный архаический сюжет о Пешем Мергене-бога-тыре («ИовБн Мерги баатр»), происходившим из торгутского рода зюн-гаров [Мифы, легенды и предания 2017, 241-247]. Большую часть жизни, согласно преданию, Пеший Мерген-богатырь прожил в одиночестве, не имея семьи, а так как ни один конь не мог его нести на себе, он ходил пешком, поэтому, оказывается, и назвали его «пеший». Мергеном его называли потому, что ни одна стрела, пущенная им, не пролетала мимо цели.
В другом предании рассказывается о качествах Пешего Мергена-бога-тыря как искусного охотника:
[Когда-то давно] жил богатырь по имени Иовгн Мерген, который по утрам и вечерам пешим охотился на зверей и птиц в широкой калмыцкой степи. Охотясь на зверей и птиц, он охранял калмыков от посягательства врагов и старался сде- лать так, чтобы на его земле царил мир. Он метко стрелял из лука, метко выражал свои мысли, был ловким и сообразительным - поэтому получил имя Мерген. С тех пор как научился ходить, никогда с помощью стремени не садился он на коня, каким бы аранзалом ни был этот конь, никогда не упускал он сайгака [на охоте], каким бы быстрым ни был степной сайгак, - поэтому он получил имя Иовгн Мерген.
Однажды, охотясь в степи на зверей и птиц, он повстречал громадного коня и его хозяина, огромного человека. Бесстрашный Мерген устрашился от силы и мощи, исходившей от незнакомого путника. Незнакомец попросил Мергена продемонстрировать меткость и ловкость, а иначе пригрозился его уничтожить и дал поручение: попросил застрелить степного сайгака так, чтобы раны на нем не было, и принести. Иовгн Мерген выстрелил в сайгака так, что стрела вошла в него сзади, а вышла через рот. Принес он и показал тому человеку. Незнакомец попросил приготовить сайгака, да так, чтобы шерсть у него не опалилась. Иовгн Мерген развел большой огонь, затем три дня продержал тушу над углями, надев ее на вертел. Так и приготовил [мясо] [Мифы, легенды и предания 2017, 237-241].
Идеал богатыря - это всегда могучий охотник, охотник-воин, с чем согласуется его наиболее древнее прозвище мэргэн («меткий»).
Интересен мотив активной пешей охоты на различных зверей в калмыцкой сказке «Мани Вяр-хан» («Мань Вор хан»):
В кочевьях Мани Вяр-хана жил один юноша. Как-то он охотился пешком, и ему навстречу выскочил заяц. Погнался он за зайцем, чуть было не схватил, - как выскочила лисица, пока гнался за лисицей, - выскочил волк. Подумав, что с волка он сможет выручить больше денег, погнался за волком. Пока гнался за волком, появился марал, погнался за ним. Так, не догнав никого, уставший, остался ни с чем [Хальмг туульс 1961, 39].
В тувинском сказании «Кангывай-Мерген» говорится о пешем охотнике Кара-Туру жившем лишь охотой:
Когда [Кангывай-Мерген] подъехал, он увидел впереди себя протоптанную охотничью тропу глубиной до головы пешехода, до пояса всадника. На этой тропе видны были следы Кара-Туру-маадыр. Он шел, подвесив, как белку, к поясу спереди за подшейный белку, к поясу сзади за подшейный волос однолетнюю самку-марала, и напевал гортанную песню так, что синее небо гремело, напевал гортанную песню так, что черная земля сотрясалась [Гребнев 1960, 78].
Развитие индивидуальной верховой охоты связано с приручением человеком коня. Одним из условий для вступления мужчин в состав охотников являлось наличие верхового коня. В сказочном фольклоре калмыков образ пешего охотника заменил всадник:
В давние времена жил богатырь по имени Уладжин Мерген, владевший длиннотелым соловым конем. Будучи добродетельным мужем, в безлюдной белой степи жил с матерью и младшей сестрой. Дома бывал редко, все время выезжал охотиться на зверя и птицу [Хальмг туульс 1961, 168].
Давно это было. Жил богатырь Чилдинг сын Мёнки. Сын Мёнки богатырь Чилдинг в расцвете юности, пребывая в беспечности, оседлал своего гладкошерстного вороного коня, отправился в бескрайние степи пострелять зверя и птицу. Две недели охотился [Хальмг туульс 1961, 77-79].
Охотой в основном занимаются мужчины, но женщины охотницы ничем не уступают им. Все героини, спасающие братьев или мужей, самостоятельно борющиеся с чудовищами, занимаются охотой не хуже, а иногда лучше мужчин. Героиня бурятского эпоса Алма Мэргэн характеризуется как лучшая охотница на земле [Абай Гэсэр I960, 63-59]. А девушка Буш Шага из калмыцкой сказки «Девушка-богатырь» («Куукн баатр») занимается охотой в обычной повседневной жизни:
После смерти родителей девушка Буш Шага жила с братом Будя Мергеном. Однажды девушка отправилась на охоту. А в это время со стороны захода солнца прибыли три муса и отравили спящего брата. Обнаружив отравленного брата, девушка отправилась отомстить за него [Хальмг туульс 1972, 97].
Героиня другой калмыцкой сказки «Девушка, похожая на юношу» («Ковун 699ДЛТ9 куукн»), облачившись в мужское одеяние, настолько искусно владеет охотничьим мастерством, что превосходит охотников-мужчин:
Давно это было. Жили старик со старухой, и была у них дочь. Держали они немногочисленный табун. Когда девушка отправлялась пасти табун, то надевала мужскую одежду, а дома вела себя, как подобает обычной девушке. Однажды, облачившись в мужскую одежду, отправилась к табуну и погнала его к кочевью одного знатного хана. Прибыли ханские табунщики, соединив лошадей, пасли они. В течение этого времени главный ханский табунщик внимательно наблюдал за ней. Затем доложил хану, что к ним прибыл и находится юноша, похожий на девушку. Хан решил разоблачить и испытать юношу, для чего пригласил поучаствовать в охоте. Ханские табунщики отправились на охоту и предложили девушке принять участие в охоте. Девушка последовала за ними. Созвала она всех горных и степных антилоп, помчавшись по тропе, одной стрелой настреляла, приторочила к седлу и вернулась к загону. Табунщики тоже вернулись со скудной добычей из двух-трех зайцев [Хальмг туульс 1961, 185-189].
В инициационном комплексе эпического героя большое место занимают действия, связанные с конем, объездкой коня, его приручением. Известно, что юный Джангар в калмыцком эпосе в возрасте двух лет, коснувшись стремян, сел на коня, а юный Гэсэр в трехлетием возрасте оседлал коня и стал охотиться:
Так мальчик стал расти по дням и месяцам. Когда мальчику исполнилось три года, оседлал он коня, самостоятельно стал выезжать на охоту пострелять зверя-птицу, посмотреть, не угрожает ли им какой враг [Хальмг туульс 1974, 115].
К инициационному испытательному и воспитательному комплексу подрастающего воина-богатыря относилась охота. В калмыцком предании описывается первый охотничий подвиг юного героя Мазан-батыра, добывшего барса и продемонстрировавшего тем самым потенциал богатырской силы и мощи:
Сирота Мазан-батыр в детстве был неказистым. Будучи ребенком, убегал он на целый день играть в степь. Однажды распространилась весть о том, что охотник нашел среди деревьев мертвого барса, у которого не было одной лапы, а было только три. Следов от ножа, топора или другого острого предмета на барсе не было. Никому в хотоне не было известно о том, кто с барсом сразился и одолел его. Весть об этом разнеслась по хотону и вскоре забылась. Пришло лето. Разбирая покров кибитки, тетя Мазана обнаружила высохшую лапу барса. В ту пору Мазану едва исполнилось тринадцать лет [Мифы, легенды и предания 2017, 249-250].
В сказании «Алдай-Буучу» сын старика Алдай-Буучу, едва начав ходить, сразу же отправился на охоту. Начал он с ловли птиц: «“Поохочусь-ка я на птичек, сделай мне, отец, лук и стрелу”, - попросил мальчик отца». Мальчик вскоре стал опытным охотником и кроме птиц уже добывал сусликов, тарбаганов, архаров и кошкаров, горных козлов, косуль. Охота доставляла Сай-Куу-кадын и ее сыну (сказание «Мёге Шагаан-Тоолай») основные средства существования. Сын Сай-Куу убивает камнями и комками земли вначале мышей и сусликов, а затем зайцев, тарбаганов, косуль, горных коз и козлов и даже маралов. Чтобы сын мог охотиться на медведя, мать научила его делать лук и стрелы [Гребнев I960, 67-70].
Инициационные свадебные состязания включали стрельбу из лука по определенным мишеням, демонстрировавшую претендентами навыки искусного охотника, что нашло отражение в сказочно-эпическом фольклоре монгольских народов. В синьцзян-ойратском «Джангаре» стрелку следовало попасть в тазобедренное отверстие лисицы:
Пустил [стрелу] - [она] прошла сквозь стебель ковыля, расколов, сбила зернышко на коровьем роге, прошла сквозь ушко семидесяти стремян и тазобедренное отверстие лисицы, долетев до черного камня величиной с корову, упала [Джангар 2005, 512].
В более поздний период популярной у калмыков была верховая псовая охота. Для этих целей калмыки держали охотничьих собак. Известно, что у каждого нойона был штат псарей (нохойичи), отвечавших за содержание охотничьих собак и руководивших ими во время охоты. Герой кал- мыцкой богатырской сказки верхом на коне, взяв с собой псов, отправляется на охоту:
Хайрт Хар Кюкюл не мог усидеть в богатстве и беспечности, оседлал скакуна Сагсаг Саарал, взяв с собой сторожевых псов, в сторону захода солнца отправился поохотиться на зверя и птицу. Много дней преследовал он зверей, устал без сна и отдыха <...> [Хальмг туульс 1961, 20].
Вблизи своих жилищ охотились в основном в одиночку на различных мелких зверей и птиц (уток, гусей, дроф), степных сурков, барсуков. Герой в калмыцкой сказке «Мальчик Бош со свистун-стрелой тоги» («Бош кевун тош БодльБта») со свистун-стрелой тоги охотится на птиц:
Поселившийся с приемными родителями на берегу озера юноша-сирота нашел как-то свистун-стрелу тош. На то озеро слеталось множество птиц. Пустил он стрелу, стрела прошла сквозь бедрышки тридцати птиц, крылья шестидесяти птиц, лопатки семидесяти птиц и попала в журавля и гуся. Взяв гуся с журавлем, отправился он свататься к младшей дочери хана. Отец с матерью предупредили его, что он таким подношением может разгневать хана [Хальмг туульс 1974, 54].
Использование в охотничьей практике свистящих стрел (наконечников с костяными накладками-свистунками) была древней традицией. «Когда марал уходил от преследователей, вслед ему выпускали свистящую стрелу, что задерживало прислушивающегося к ее полету зверя» [Жамбалова 1991,59].
Древняя охотничья жизнь, охотничьи представления обнаруживаются в фольклоре в виде реликтовых элементов, подчеркивая архаизированный характер сюжетов и мотивов. У ойратов, предков калмыков, и кочевых народов Центральной Азии охота являлась одной из форм раннего хозяйствования, со временем, с развитием кочевого скотоводства, охота становится подсобным занятием. Смена ареала обитания калмыков также отразилась на форме хозяйствования и охотничьих традициях.
Список литературы Реликты охотничьего уклада и промысла в фольклорной традиции калмыков и народов трансграничных регионов. Статья первая
- Абай Гэсэр / вступ. статья, подготовка текста, пер. и коммент. А.И. Уланов. Улан-Удэ, 1960.
- Авляев Г.О. Происхождение калмыцкого народа. Элиста, 2002.
- Ах ад хойр мергн кeвYнэ туск тууль // Ф. 16. Оп. 1. Кас. № 160 (1), (169). Информант Найминова Б.М., запись Бембеевой Е.Г. (г. Элиста, 1977 г.), расшифровка Болдыревой И.М.
- Батмаев М.М. Калмыки в XVП-XVШ веках. События, люди быт: в 2 книгах. Кн. 1. Элиста, 1993.
- Ванштейн С.И. Проблема происхождения и формирования хозяйственно-культурного типа кочевых скотоводов умеренного пояса Евразии. М., 1973.
- Владимирцов Б.Я. Монголо-ойратский героический эпос. СПб., 1923.
- Владимирцов Б.Я. Работы по истории и этнографии монгольских народов. М., 2002.
- Гребнев Л.В. Тувинский героический эпос: опыт историко-этнографическо-го анализа. М., 1960.
- Гурвич И.С. Культура северных якутов-оленеводов. М., 1977.
- Далай Ч. Монголия в XIII-XIV вв. М., 1983.
- Джангар. Героический эпос синьцзянских ойрат-монголов: в 3 т. Т. 1. Элиста. 2005.
- Жамбалова С.Г. Традиционная охота бурят. Новосибирск, 1991.
- Книга Марко Поло / пер. старофр. текста И.П. Минаева; ред. и вступ. статья И.П. Магидовича. М., 1956.
- Марков Г.Е. Кочевники Азии: Структура хозяйства и общественной организации. М., 1976.
- Мифы, легенды и предания калмыков / подготовка текстов, пер., вступит. ст., примеч., комментарии, указатели, словарь Т.Г. Басанговой, Т.А. Михалевой. М., 2017.
- Неклюдов С.Ю. Небесный охотник в мифах и эпосе тюрко-монгольских народов // Теоретические проблемы изучения литератур Дальнего Востока. Ч. 1. М., 1980. С. 45-156.
- Патканов С. Тип остяцкого богатыря по остяцким былинами героическим сказаниям. СПб., 1891.
- Пословицы, поговорки и загадки калмыков России и ойратов Китая / сост., перевод Б.Х. Тодаевой. Элиста, 2007.
- Потапов Л.П. Географический фактор в традиционной культуре и быте тюркоязычных народов Алтае-Саянского региона // Роль географического фактора в истории докапиталистических обществ (по этнографическим данным). Л., 1984. С. 132-133.
- Санчиров В.П. Монгольское завоевание Южной Сибири в начале XIII века и вхождение ойратов в состав государства Чингис-хана // Монголоведение. 2004. № 3. С. 179-192.
- Уланов А.И. Бурятский героический эпос. Улан-Удэ, 1963.
- Хальмг туульс. I боть. Элиста, 1961.
- Хальмг туульс. II боть. Элиста, 1968.
- Хальмг туульс. III боть. Элиста, 1972.
- Хальмг туульс. IV боть. Элиста, 1974.
- Хан тецгр 1981. № 2. С. 130-138.