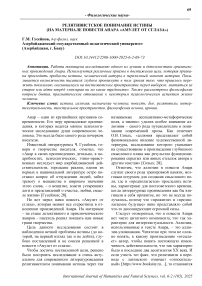Релятивистское понимание истины (на материале повести Анара «Амулет от сглаза»)
Автор: Гусейнов Г.М.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 6-2 (105), 2025 года.
Бесплатный доступ
Работа посвящена исследованию одного из лучших и довольно-таки оригинальных произведений Анара. Используются различные приёмы в достижении цели, которая призвана проследить проблемы истины, человеческой натуры в переломный момент истории. Показывается возможность писателя глубоко проникнуть в поле зрения того, что пришлось пережить поколению, оказавшемуся на постсоветском пространстве перед выбором: хвататься за старое или идти вперёд «невзирая ни на какие трудности». Также рассмотрены философские вопросы бытия, прагматическое отношение к некоторым психологическим аспектам жизни человека.
Истина, аллюзия, назначение человека, повесть, бог, релятивизм, интертекстуальность, текстуальное пространство, философская основа, ирония
Короткий адрес: https://sciup.org/170210662
IDR: 170210662 | DOI: 10.24412/2500-1000-2025-6-2-69-73
Текст научной статьи Релятивистское понимание истины (на материале повести Анара «Амулет от сглаза»)
Анар – один из крупнейших прозаиков современности. Его перу принадлежат произведения, в которых ведется мягкое психологическое исследование души современного человека. Это всегда было своего рода почерком писателя.
Известный литературовед Ч. Гусейнов, говоря о творчестве писателя, отмечал, что «Анар в своих произведениях детально, в подробностях, психологических, этико-нравственных исследует мир азербайджанской действительности, городские реалии, одним из первых в национальной литературе остро поставил вопрос об отчуждении людей, забил тревогу о мещанстве в широком значении этого слова, – о вещизме, власти устаревших доги и представлений о счастье, любви, смысле жизни» [Гусейнов; 28].
Но вот перед нами повесть «Амулет от сглаза», которая меняет все стереотипы в отношении произведений Анара. На материале – на стыке детективного и приключенческого жанров – писатель решил показать нам новые грани творчества.
Цель данного исследования состоит в наблюдении вечной проблемы истины (до которой, на первый взгляд так и не дойти), глубоко поставленной и не совсем решенной в повести «Амулет от сглаза».
Чтобы достичь поставленной цели, решено было построить исследование в очень актуальном для современного литературоведения релятивистском понимании истины через так называемые ассоциативно-метафорические поля, а именно: уделив особое внимание аллюзиям – своего рода путеводителям в понимании современной прозы. Как отмечает О.В. Сизых, «аллюзия представляет собой феноменальное явление художественной литературы, исследование которого указывает на существование в произведении глубинного смыслового плана как результата функционирования скрытых или явных отсылок автора к другим текстам» [Сизых; 28].
Отметим, что аллюзии в повести Анара служат своего рода тренировкой памяти, мозговым штурмом для создания смыслового поля, где и «предполагается» проследить истины, характерные для постсоветского времени, когда литературные произведения как бы втягивали в себя прожитое, но это не всегда получалось, потому что «прожитое» и «предполагаемое будущее» явно представляло собой что-то диссонирующее огромной силы.
Следует оговориться, что в повести Анара нет чисто цитатного компонента, что так характерно для интертекстуальности. Аллюзии, использованные в тексте Анара, – это аллюзии-упоминания. Читателю при этом не сложно понять, к какому произведению «отсылает» автор, чтобы понять постоянную изменчивость действительности, что так характерно было в последние два десятилетия ХХ века. И если учесть тот факт, что релятивизм в переводе с латинского означает «относительный» [https:/…], то становится понятной и позиция Анара представить переходный период в истории ХХ века как ассоциативно-метафорический, чтобы читатель мог сам деконструировать проблемы, связанные с восприятием действительности, проблемами общества и невозможностью решить их.
Прежде всего удивляет читателя факт частого обращения к Богу, к философским основам различных религий, чего также не было в созданных Анаром произведениях, скажем в 70-е или в 80-е годы. Насколько больше уповает на Бога герой Анара (он, кстати говоря, дан в произведении как своего рода двойник Ивана Карамазова, раздвоение личности которого помогает читателю легко ориентироваться в пространстве и времени, сравнивать прошлое и настоящее героя, а равно и возможность лучше представить действительность, изменчивую, многогранную и в то же время удивительно консервативную, аллюзии на романы Ф.М. Достоевского явны в том плане, что герои этого замечательного русского писателя подвержены сомнениям, в отношении самих себя: будь то Раскольников, будь Иван Карамазов. Анар как будто проводит своего героя по адскому кругу, давая ему сознание даже в могиле: герою самому интересно, если выдастся ему выбраться из могилы, как он будет себя чувствовать. Что изменится в отношениях с людьми, как воспримет он мир заново – Г. Г.), настолько больше он иронизирует в отношении человека, действительности в целом.
Как человек советский, герой, оказавшись «случайно» в могиле, рассуждает: «Господи, в чем же я провинился? В том, что не верил в Тебя? Ей-богу, в глубине души я всегда верил в Тебя, однако условия были таковы, что я вынужден был скрывать эту веру… Ну вот, теперь ты уповаешь на Бога, от которого отрекался всю свою жизнь. Бог велик! И уповать надо только на Бога – и больше ни на кого. Отныне меня может спасти только чудо, имя которому – Бог …» [Анар; «Дружба народов»; 100].
И как советский же человек, оказавшись в невероятном положении, герой иронизирует относительно того, что есть вообще понимание действительности, и каков в этом аспекте сам человек. Явно слышны нотки некрасовского стихотворения «Нравственный человек», где начальная ирония постепенно пере- ходит в открытую сатиру. Некрасовская аллюзия в данном случае репрезентируется через ироничное «прожил праведно» героя Анара. Вера в Бога, в правдивость его деяний иногда у героя Анара подвергается сомнению: «Разумеется, если Он действительно существует… Значит ты все ещё сомневаешься в его существовании? Именно поэтому ты и наказан. Да простит меня Бог, ведь он не меркантилен. Он же знает, что, верил я в Него, или нет, всю свою жизнь я прожил праведно, никому ничего плохого не делал, старался жить по совести» [Анар; 100]. Вспомнив стихотворение «Нравственный человек» с его рефреном
«Живя согласно с строгою моралью,
Я никому не сделал в жизни зла …» [Некрасов; …]
читатель вполне поймет мысли героя Анара о том, что иногда личная оценка качеств, которые можно посчитать за Добро к самому себе, и Злом в отношении других, является довольно условной … Таким образом Анар, упоминая произведение великого русского поэта, хочет заметить, что истина, какой была относительной двести с лишним лет назад, осталась такой же, а главное – субъективно воспринимаемой. И, нет силы, которая смогла бы это изменить.
Интересен тот факт, что Анар демонстрирует понимание сути человека, соотношения добра и зла на современном этапе развития человечества, оппонируя религиозным воззрением различных религиозных течений, философия которых оставила в истории значительный след. Его стремление показать, как же воспринимает человек действительность, как он, несмотря на довольно разные жизненные ситуации пытается дойти до истины, дает возможность современному читателю понять, через что прошло человечество на пути своего развития и достигло ли в этом отношении прогресса. И если опираться на текст произведения Анара, то можно понять, что человек не смог достичь прогресса в нравственном плане, не смог для себя полностью представить, что такое добро, а что – зло. Герой Анара в погоне за пониманием истины через «третий глаз», наоборот, все больше и больше затрудняется в приятии законов истины.
Рассуждая о том, что по «философии суфиев – смерть – это воссоединение с Богом» [Анар; 100], герой хочет понять, как он был наказан столь сурово, что пришел в себя в могиле и только здесь может спокойно размышлять о вине человека: «Ты действительно не знаешь, в чем твоя основная вина? Нет, не в твоем неверии и даже не в отрицании Бога. А в том, что ты возомнил себя богом. Ты, обуянный гордыней, стремился совершать деяния, присущие лишь Богу, а никак не потомку Адама …» [Анар; 100]. Здесь следует вспомнить великого азербайджанского поэта-суфия, аллюзия на произведение которого явно прослеживается в данном эпизоде из повести Анара. Лирический герой Насими «не вмещаясь» в этот мир и вообще в бытие, хочет понять обуян ли он гордыней, считает ли себя Всевышним и на какой-то момент понимает, что он Адам и не может быть Всевышним.
В меня вместятся оба мира, но в этот мир я не вмещусь;
Я суть, я не имею места, - и в бытие я не вмещусь …
Поглубже загляни в мой образ и постарайся смысл понять, –
Являясь телом и душою, я в душу с телом не вмещусь …
Хоть я велик и необъятен, но я Адам, я человек
Я сотворение вселенной, но в сотворенье не вмещусь …
Хотя сегодня Насими я, я хашимит и ко-рейшит,
Я меньше, чем моя же слава, – но я и в славу не вмещусь.
[Перевод на русский язык К. Симонова; Антология азербайджанской поэзии; 171-172].
Как видно по отрывку из произведения Насими, человек, возомнивший себя выше всех, больше всего подвергается самоистязанию. Герой Анара, проживший нелегкое детство и, еще хуже, время своего юношеского возраста при первой же возможности возомнил себя сверхчеловеком, совсем не признавая и не желая признавать того, каким бывает конец таких людей.
Интересен тот факт, что Анар порой дает возможность читателю понять и представить, что действительно есть «третий глаз». Герой, будучи в могиле, рассуждает о многом, причем, подчеркиваем, будучи в сознании. Он как будто знает, что могильщик Насруллах и по- могающий ему молодой водитель откопают его, дадут возможность вновь увидеть белый свет.
То есть, будучи в могиле герой, вспоминая индийского бога Шиву, хочет осознать то, что обычно бывает за пределами восприятия. Это своего рода видение духовного мира: понимающий, что у него открыт «третий глаз», старается, как это делает герой Анара, понять истину за пределами иллюзий. И это, безусловно, помогает ему ещё быть в сознании.
Неординарность случая – в могиле оказался живой человек, – подсказка к восприятию истины: ХХ век вряд ли можно отличить от Средневековья; параллелей в «дикости» можно отыскать сколько угодно. К примеру, ал-люзийное упоминание на сталинские репрессии, где читатель узнает о том, почему ближайшее к Баку озеро называется Кровавым : «Это не просто озеро, – объясняет могильщик Насруллах молодому водителю, – это кровавое озеро. А знаешь почему это озеро назвали кровавым?.. В 30-е годы ГПУ расстреливало людей и бросало их тела в это озеро …» [Анар; 106].
Не случаен и тот факт, что Анар включил в своё произведение образ могильщика. Читателю не трудно догадаться, что аллюзии на произведение Шекспира довольно уместны.
Пьяный, могильщик не вполне может осознать произошедшее: как это так, хотели откопать мертвеца, а спасли человека живого. Анар довольно интересно передает, диалог двух героев. Герой, облачившись в одежду могильщика, хочет поблагодарить его: «Я очень благодарен тебе, ты вернул меня с того света». «Но тот (могильщик), не раскрывая глаз, начал философствовать, ни дать ни взять могильщик из Гамлета: - Тот свет, этот свет … думаешь такая большая разница. Там мертвецы – как живые, а здесь живые как мертвецы» [Анар; 110]. Естественно, что читатель вновь и вновь проживает диалог действующих лиц (Гамлета, Горацио, двух могильщиков) и 5-го акта I сцены произведения великого английского писателя. Также в данном отрывке есть аллюзийное упоминание сцены о купле-продаже «мертвых душ», которое происходит в имении Собакевича, где умершие крестьяне представляются как живые, с самыми добрыми характеристиками.
Нельзя не обратить внимание на размышления героя повести Анара о назначении че- ловека и о том, какова его миссия на этом свете. Так, читаем на страницах повести вроде бы довольно неприличную сцену, и вдруг, как будто случайно герой произносит, «поменяв тон, как умудренный годами старец ... «- жизнь дается нам всего один раз …» [Анар; 112].
Читатель, безусловно, вспоминает замечательные слова героя романа Н.А. Островского «Как закалялась сталь». И вместе с этим невольно напрашивается параллель с произведением А.П. Чехова «Рассказ неизвестного человека», где герой говорит, что «жизнь дается один раз, и хочется прожить её бодро, осмысленно, красиво. Хочется играть видную, самостоятельную, благородную роль, хочется делать историю, чтобы те же поколения (имеются ввиду будущие поколения. – Г. Г.)
не имели права сказать про каждого из нас: то было ничтожество или ещё хуже того …» [Чехов; 172]. Сюжет повести Анара с поисками истины жизни, скорее, отражает полностью второй пример о жизни.
В поисках истины Анар обращается и к истокам литературы – фольклору. В них писа- тель ищет истинное назначение человека, хочет пройти своего рода тест на восприятие и понимание слова человек во всех отношениях: философском, социальном, политическом. Такое ощущение, что писатель на пути к достижению тайн истины, прошёл весь путь своего героя сам. Наверное, в этом и непревзойденность произведения Анара. Оценить роль писателя можно фразой из книги Орхана Памука «Наивный и сентиментальный писатель», где известный романист, замечая точность, ясность позиции автора пишет, что «всё это заставляет нас восхищаться писателем и чувствовать, что он способен описать, что угодно, будто сам это все пережил, причем так, что мы в это поверим» [Памук; 59].
Отметим ещё, что в поисках истины писатель проводит своего героя и через ряд «страшных» наказаний, чтобы дать ему, и нам, читателям, понять, что такое человек. Анар специально проводит параллели с пони- манием назначения человека, независимо от того он обычный или имеет «третий глаз». Он совершенно не согласен с мнением Сартра, что человек – это исчадие ада. И дает многочисленные примеры того, как понимали назначение человека великие литераторы, представители других видов искусства, общественные деятели: «Человек – это Насими, который пожертвовал собой ради собственных убеждений. Человек – это Толстой, создавший «Хаджи Мурата», это – Махатма Ганди, Альберт Щвейцер, мать Тереза … Человек – это самые нежные и красивые жен- щины мира, самые смелые, сильные, волевые мужчины, самые невинные дети, самые мудрые старики. Человек – это Физули, Ли Бо, Рафаэль, Моцарт, Чехов» [Анар; 139].
Следует еще отметить и тот факт, что текстуальное пространство, выбранное Анаром, не дает читателю возможности полностью осознать внутреннее движение сюжета, хотя мотив есть, чувствуется гиперсмысловой код, есть призыв к философскому диалогу, который особенно заметен аллюзийными упоминаниями. Скорее, такое восприятие можно объяснить рамками жанра, хотя думается, получился бы хороший роман, который, кстати, Анар предлагает додумать и дописать самому читателю.
Конечно же, следует воздать должное и переводчику, известному азербайджанскому русскоязычному писателю Натику Расулзаде. Можно сделать вывод, что он сумел полностью передать мысли Анара об истинном назначении человека.