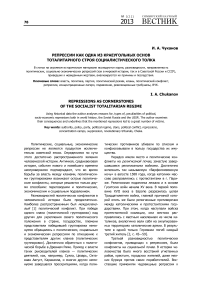Репрессии как одна из краеугольных основ тоталитарного строя социалистического толка
Автор: Чуканов Иван Альбертович
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: История и историография
Статья в выпуске: 1 (11), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье на огромном историческом материале исследуются корни, разновидности, направленность политических, социально-экономических репрессий (как в мировой истории, так и в Советской России и СССР), приведших к невиданным жертвам, анализируются их причины и последствия.
Власть, политика, партия, политический режим, кланы, политический конфликт, репрессии, концентрационные лагеря, подавление, революционные трибуналы, вчк
Короткий адрес: https://sciup.org/14113746
IDR: 14113746
Текст научной статьи Репрессии как одна из краеугольных основ тоталитарного строя социалистического толка
Политические, социальные, экономические репрессии не являются продуктом исключительно советской эпохи. Определимся по сути этого достаточно распространенного явления человеческой истории. Античная, средневековая история, события нового и новейшего времени неопровержимо подтверждают, что во время борьбы за власть между кланами, политическими группировками возникают острые политические конфликты, которые решаются только двумя способами: переговорами и политическим, экономическим и социальным подавлением.
Разновидностей политических конфликтов в человеческой истории было предостаточно. Наиболее распространенным был междуклано-вый [1] политический конфликт. При победе одного клана (политической группировки) над другим для укрепления своего политического положения в стране, государстве, племени представители победившей группировки неминуемо обращались к политическим, социальным и экономическим репрессиям по отношению к представителям других кланов (политических группировок). Достаточно обратиться к политической борьбе в Древнем Риме. Приход к власти таких руководителей кланов — политических деятелей, как, например, Сулла, Цезарь, Октавиан Август, Каракалла, и многих других неминуемо завершался проскрипциями, когда поли- тических противников убивали по спискам и конфисковывали в пользу государства их имущество.
Нередко имели место и политические конфликты на религиозной почве , зачастую завершавшиеся религиозными войнами. Достаточно вспомнить так называемую «Варфоломеевскую ночь» в августе 1588 года, когда католики массово расправлялись с протестантами в г. Париже. Религиозная подоплека лежала и в основе Гуситских войн начала XV века. В первой половине XVII века в Европе разразилась целая Тридцатилетняя война, главной причиной которой опять же были религиозные противоречия между католическими и протестантскими государствами. При этом, когда наступали войска протестантской коалиции, они жестоко расправлялись с местным населением из числа католиков, аналогично вели себя на оккупированных территориях католические армии. В результате в одной только Германии погиб каждый третий житель [2, c. 45—59].
Третьей разновидностью политических конфликтов, приводящих к репрессиям, были конфликты на социальной почве. В истории человечества было много восстаний угнетенных рабов, крестьян, городских жителей, даже мелких буржуа против своих поработителей. Восставшие применяли чудовищные репрессии к богачам, государственным чиновникам, членам их семей. Не менее жестокие репрессии использовали солдаты и офицеры карательных армий против пленных повстанцев. Примеров подобных конфликтов человеческая история выдвигает немало, начиная от восстания рабов под руководством Спартака в Древнем Риме и завершая крестьянскими восстаниями тайпинов и «боксеров» в Китае в XIX—XX вв. [3, с. 113—115].
Четвертой разновидностью политического конфликта, имевшего следствием политические и экономические репрессии, были захватнические войны. Общеизвестно, какие жесточайшие репрессии на своих политических противников обрушивали оккупационные режимы Наполеона Бонапарта, например, в Испании, или фашистские захватчики в оккупированных районах СССР и других порабощенных стран.
По их форме мы выделяем четыре типа конфликтов. Как правило, многие политические и социально-экономические конфликты носят или верхушечный , или глубинный характер . Однако в отдельных случаях они имеют форму геноцида, то есть тотального уничтожения не только лиц, входящих в правящее сословие, но и целых социальных слоев, а нередко и всего населения поголовно. Верхушечный характер носили конфликты внутри правящего класса, экономически лидирующих сословий. Классическим примером подобного можно назвать вышеупомянутые репрессии в Древнем Риме и наследственные репрессии в Османской империи. В Древнем Риме вышеупомянутый Сулла, Октавиан Август строго ограничивали список лиц, поставленных вне закона [4]. Как правило, он ограничивался перечнем 2—3 десятков (сотен) наиболее знатных и известных деятелей и членов их семей, находящихся в оппозиции. Пришедшие к власти Османские султаны немедленно истребляли своих братьев, племянников, других родственников, которые могли составить политическую конкуренцию в их борьбе за престол [5, с. 201—202]. Это конфликты, относящиеся к первому типу.
Реже встречались репрессии, носившие глубинный характер, то есть конфликты, относящиеся ко второму типу. Уничтожались лица, принявшие участие в политическом противоборстве на стороне политической (национальнотерриториальной) оппозиции. Во времена Великой Французской революции репрессиям со стороны якобинцев подвергались оппозиционно настроенные дворяне-роялисты, представители духовенства, а также простые граждане, участвующие в мятежах и восстаниях, например, вос- ставшие жители провинции Вандея. В ходе Вандейской войны и после неё печальную известность снискали так называемые «адские колонны генерала Тюрро», действия которых некоторые исследователи характеризуют как франко-французский геноцид. В ходе подавления восстания и последующих карательных операций против контрреволюционно настроенного населения Вандеи были без суда убиты более 10 000 человек обоих полов; по другим данным, количество жертв составило от 400 000 до 1 000 000 человек [6, с. 114—145]. То есть это репрессии, направленные против политической оппозиции [6].
В истории некоторых стран, например, фашистской Германии, Турции, репрессии, начавшиеся как глубинные, перерастали в выборочный социальный геноцид (третья форма) , когда поголовному уничтожению и репрессиям подвергались граждане, не являющиеся оппозиционерами, но принадлежащие к нежелательной социальной группе (народности, нации), национальному признаку (евреи, цыгане в фашистской Германии, армяне и греки, например, резня в Хиосе, в Турции, геноцид армян 1915 года) [7].
Элементы выборочного социального геноцида имели место и во время Февральской революции, когда поголовному уничтожению озверелые солдаты и революционные матросы подвергали офицеров, полицейских (например, Кронштадт, февраль 1917 года) [8, с. 222].
В советское время имели место случаи массовых расстрелов дворян, заложников, поголовное уничтожение казаков в ходе так называемого «расказачивания» [9]. К социальному геноциду можно отнести уже упомянутые примеры расправ над протестантами в Париже [10]. Социальному геноциду, то есть повальному истреблению, подверглись жители оппозиционно настроенного Великого Новгорода во времена правления Ивана IV Грозного [11]. Это примеры выборочного геноцида.
В то же время в человеческой истории имели место и случаи тотального геноцида, когда уничтожались без разбора жители обороняющихся городов и население целых непокорных стран, например жители Тангутского царства (войны Чингисхана) [12]. Имел место геноцид, организованный и в наше время, например, вождями племени хуту против племени тутси в Руанде, осужденный международным сообществом и ООН. По некоторым данным, число погибших составило 937 тысяч человек [13]. Тотальный геноцид по отношению к «классово враждебным элементам» в 1975—1978 гг. был организован
Пол Потом и его подручным Иенг Сари в Камбодже во время правления режима «красных кхмеров» [14].
Что является политическими, социальными и экономическими предпосылками для организации репрессий? В первую очередь острый политический конфликт, когда одна часть общества пытается навязать свою политическую, социальную, экономическую, культурную программу другой части общества, считающей ее неприемлемой .
В основе политического конфликта в Советской России после 1917 года лежал конфликт между фантастической, совершенно оторванной от реальной жизни политической, социальной и экономической программой, насаждаемой РКП(б), поддерживаемой незначительной частью населения страны, с одной стороны, и той огромной, настроенной резко оппозиционной частью граждан, для которых эти утопические идеи были совершенно неприемлемы [15] . Если не брать экономическую составляющую большевистского эксперимента [16, с. 34], то можно увидеть, что предлагаемые советской властью на местах декреты буквально взорвали народное самосознание. Приведем эти исторические документы, в силу которых советская власть и коммунисты собирались отменить не только частную собственность, но и семью как первичную ячейку «буржуазного быта».
Декрет Владимирского совдепа «О раскрепощении женщин» [16, с. 34]
-
1. С 1 марта 1918 года в городе Владимире отменяется частное право на владение женщинами (брак отменен, как предрассудок старого капиталистического строя). Все женщины объявляются независимыми и свободными. Каждой девушке, не достигшей 18 лет, гарантируется полная неприкосновенность ее личности. «Комитет бдительности» и «Бюро свободной любви».
-
2. Каждый, кто оскорбит девушку бранным словом или попытается ее изнасиловать, будет осужден ревтрибуналом по всей строгости революционного времени.
-
3. Каждый изнасиловавший девушку, не достигшую 18 лет, будет рассматриваться как государственный преступник и будет осужден ревтрибуналом по всей строгости революционного времени.
-
4. Всякая девица, достигшая 18-летнего возраста, объявляется собственностью республики. Она обязана быть зарегистрирована в «Бюро свободной любви» при «Комитете бдительности» и иметь право выбирать себе среди мужчин от 19 лет до 50 временного сожителя-товарища.
-
5. Право выбора временного сожителя предоставляется один раз в месяц. «Бюро свободной любви» при этом пользуется автономией.
-
6. Все дети, рожденные от этих союзов, объявляются собственностью республики и передаются роженицами (матерями) в советские ясли, а по достижении 5 лет — в детские «дома-коммуны». Во всех этих заведениях все дети содержатся и воспитываются за общественный счет.
Примечание. Согласия мужчины при этом не требуется. Мужчина, на которого пал выбор, не имеет права заявлять протест. Точно так же это право предоставляется и мужчинам при выборе среди девиц, достигших 18-летнего возраста.
Совдеп города Владимира. 01.01.1918.
Далее приводится декрет Саратовского совдепа, который имеет некоторые разночтения с Владимирским, но в общем аналогичен ему. Эти декреты местных совдепов вводились пробно, и в случае их провалов ответственность за них несли местные совдепы, а не Совнарком. Но такие декреты грозили взрывом негодования населения, и коммунисты побоялись попробовать их осуществить.
После его обнародования такого декрета в Саратове тысячи жителей города, прихватив с собой дочерей и жен, устремились за пределы города, куда «глаза глядят».
Декрет
Саратовского губернского совета народных комиссаров об отмене частного владения женщинами [16, с. 35]
Законный брак, имеющий место до последнего времени, несомненно, является продуктом того социального неравенства, которое должно быть с корнем вырвано в Советской республике. До сих пор законные браки служили серьезным оружием в руках буржуазии в борьбе с пролетариатом, благодаря только им все лучшие экземпляры прекрасного пола были собственностью буржуев, империалистов, и такою собственностью не могло не быть нарушено правильное продолжение человеческого рода. Поэтому Саратовский губернский совет народных комиссаров, с одобрения Исполнительного комитета Губернского совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, постановил:
-
1. С 1 января 1918 года отменяется право постоянного владения женщинами, достигшими 17 лет и до 32 лет.
-
2. Действие настоящего декрета не распространяется на замужних женщин, имеющих пятерых и более детей.
-
3. За бывшими владельцами (мужьями) сохраняется право на внеочередное пользование своей женой.
-
4. Все женщины, которые подходят под настоящий декрет, изымаются из частного владения и объявляются достоянием всего трудового класса.
-
5. Распределение заведывания отчужденных женщин предоставляется Совету рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, уездными и сельскими по принадлежности…
-
6. Граждане мужчины имеют право пользоваться женщиной не чаще четырех раз в неделю в течение не более трех часов при соблюдении условий, указанных ниже.
-
7. Каждый член трудового коллектива обязан отчислять от своего заработка два процента в фонд народного образования.
-
8. Каждый мужчина, желающий воспользоваться экземпляром народного достояния, должен предоставить от рабоче-заводского комитета или профессионального союза удостоверение о своей принадлежности к трудовому классу.
-
9. Не принадлежащие к трудовому классу мужчины приобретают право воспользоваться отчужденными женщинами при условии ежемесячного взноса, указанного в п. 7, в фонд 1000 руб.
-
10. Все женщины, объявленные настоящим декретом народным достоянием, получают из фонда народного поколения вспомоществование в размере 280 руб. в месяц.
-
11. Женщины забеременевшие освобождаются от своих обязанностей прямых и государственных в течение 4-х месяцев (3 месяца до и один после родов).
-
12. Рождаемые младенцы по истечении месяца отдаются в приют «Народные ясли», где воспитываются и получают образование до 17-летнего возраста.
-
13. А при рождении двойни родительнице дается награда в 200 руб.
-
14. Виновные в распространении венерических болезней будут привлекаться к законной ответственности по суду революционного времени.
Примечание. Возраст женщин определяется метрическими выписями, паспортом. А в случае отсутствия этих документов — квартальными ко- митетами или старостами по наружному виду и свидетельским показаниям.
Примечание. В случае противодействия бывшего мужа в проведении сего декрета в жизнь он лишается права, предоставляемого ему настоящей статьей.
Совету поручается вносить улучшения и проводить усовершенствования по данному декрету.
В других случаях политический конфликт носил, как уже говорилось, религиозный подтекст, когда одна часть общества старалась путем репрессий навязать другой части граждан свои религиозные мировоззрения. Видя горе и страдания народа, патриарх Тихон обратился к большевистским властям с посланием. Приведем его полностью, так как этот документ является малоизвестным. Он позволяет понять, почему Русская Православная церковь стала «вдруг» «врагом государства» [17, с. 82—85].
Смиренный Тихон, Божиею милостию Патриарх Московский и всея России, возлюбленным о Господе архипастырям, пастырям и всем чадам Православной Церкви Российской.
Тяжкое время переживает ныне Святая Православная Церковь Христова в Русской земле: гонение воздвигли на истину Христову явные и тайные враги сей истины и стремятся к тому, чтобы погубить дело Христово, и вместо любви христианской всюду сеют семена злобы, ненависти и братоубийственной брани.
Забыты и попраны заповеди Христовы о любви к ближним: ежедневно доходят до Нас известия об ужасных и зверских избиениях ни в чем не повинных и даже на одре болезни лежащих людей, виновных разве в том, что честно исполняли свой долг перед Родиной, что все силы свои полагали на служение благу народному. И все это совершается не только под покровом ночной темноты, но и въявь, при дневном свете, с неслыханною доселе дерзостию и беспощадною жестокостию, без всякого суда и с попранием всякого права и законности — совершается в наши дни во всех почти городах и весях нашей Отчизны: и в столицах, и на отдаленных окраинах (в Петрограде, Москве, Иркутске, Севастополе и др.).
Все сие переполняет сердце Наше глубокою болезненною скорбию и вынуждает Нас обратиться к таковым извергам рода человеческого с грозным словом обличения и прещения по завету св. апостола: «Согрешающих пред всеми обличай, да и прочие страх имут».
Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы. Ведь то, что творите вы, не только жестокое дело, это поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню геенскому в жизни будущей — загробной и страшному проклятию потомства в жизни настоящей — земной.
Властию, данной Нам от Бога, запрещаем вам приступать к Тайнам Христовым, анафемствуем вас, если только вы носите еще имена христианские и хотя по рождению своему принадлежите к Церкви Православной.
Заклинаем и всех вас, верных чад Православной Церкви Христовой, не вступать с таковыми извергами рода человеческого в какое-либо общение: «Измите злаго от вас самех».
Гонение жесточайшее воздвигнуто и на Святую Церковь Христову: благодатные таинства, освящающие рождение на свет человека или благословляющие супружеский союз семьи христианской, открыто объявляются ненужными, излишними; святые храмы подвергаются или разрушению чрез расстрел из орудий смертоносных (святые соборы Кремля Московского), или ограблению и кощунственному оскорблению (часовня Спасителя в Петрограде); чтимые верующим народом обители святые (как Александро-Невская и Почаевская лавры) захватываются безбожными властелинами тьмы века сего и объявляются каким-то якобы народным достоянием; школы, содержащиеся на средства Церкви Православной и подготовлявшие пастырей Церкви и учителей веры, признаются излишними и обращаются или в училища безверия, или даже прямо в рассадники безнравственности. Имущества монастырей и церквей православных отбираются под предлогом, что это — народное достояние, но без всякого права и даже без желания считаться с законною волею самого народа… И наконец, власть, обещавшая водворить порядок на Руси, право и правду, обеспечить свободу и порядок, проявляет всюду только самое разнузданное своеволие и сплошное насилие над всеми и, в частности, — над Святою Церковью Православной.
Где же пределы этим издевательствам над Церковью Христовой? Как и чем можно остановить наступление на Нее врагов неистовых?
Зовем всех вас, верующих и верных чад Церкви: станьте на защиту оскорбляемой и угнетаемой ныне Святой Матери нашей.
Враги Церкви захватывают власть над Нею и Ее достоянием силою смертоносного оружия, а вы противостаньте им силою веры вашей, вашего властного всенародного вопля, который остановит безумцев и покажет им, что не имеют они права называть себя поборниками народного блага, строителями новой жизни по велению народного разума, ибо действуют даже прямо противно совести народной.
А если нужно будет и пострадать за дело Христово, зовем вас, возлюбленные чада Церкви, зовем вас на эти страдания вместе с собою словами святого апостола: «Кто ны разлучит от любве Божия: скорбь ли, или теснота, или гонение, или глад, или нагота, или беда, или меч».
А вы, братие архипастыри и пастыри, не медля ни одного часа в вашем духовном делании, с пламенной ревностью зовите чад ваших на защиту попираемых ныне прав Церкви Православной, немедленно устрояйте духовные союзы, зовите не нуждою, а доброю волею становиться в ряды духовных борцов, которые силе внешней противопоставят силу своего святого воодушевления, и мы твердо уповаем, что враги Церкви будут посрамлены и расточатся силою креста Христова, ибо непреложно обетование Самого Божественного Крестоносца: «Созижду Церковь Мою, и врата адовы не одолеют ей».
Россия, к сожалению, в этом вопросе не была одинока. Примеров политических конфликтов на религиозной почве можно привести очень много. Это и конфликт между конкиста- дорами-католиками и мусульманами в Испании в XV веке, закончившийся резней и бегством мусульман, когда подвергаемые издевательствам мавры, арабские жители Испании, восстали и убили более 3000 тысяч христиан. Испанцы в 1526 году самым жесточайшим образом отомстили, убив несколько десятков тысяч арабов, многих из них сожгли на медленном огне и подвергли перед смертью нечеловеческим пыткам [18, с. 112—113]. Достаточно вспомнить и кровопролитные конфликты между мусульманами и буддистами в Индии и Пакистане [19, с. 143— 156] и т. п. Нередко конфликты носили национально-политический характер, когда титульная нация пытается подавить при помощи репрессий другие малочисленные народы, стремящиеся к национальной независимости (конфликты в Шри-Ланке, Стране Басков, Северной Ирландии, индийских штатах Кашмир, Ассам и Нагаленд, китайском Тибете и т. д.).
Часто конфликты являются следствием завоевательных войн, когда государство-агрессор пытается навязать какому-либо народу, стране оккупационный режим, сопровождающийся национальным, политическим, культурным и религиозным гнетом (завоевание Сербии, Болгарии, Греции Османской империей в XIV—XV вв., оккупация немецкими фашистами ряда европейских стран и др.).
Обратимся к Советской России и СССР. Политические, социальные и экономические репрессии — неотъемлемая часть советской истории. Мы не будем говорить о масштабах и последствиях террора и репрессий, организованных Советским государством во главе с правящей коммунистической партией; так как об этом сказано и написано уже много, обратимся к его причинам.
Теоретики марксизма задолго до Октябрьской революции предложили использовать государственный террор как один из способов «строительства социализма». К. Маркс и Ф. Энгельс в «Манифесте Коммунистической партии» еще в 1848 году предложили использовать «революционное подавление» для «насильственного ниспровержения всего существующего общественного строя» [20, с. 490—491]. Еще в 1852 году Ф. Энгельс высказал пророческие слова: «…мы будем вынуждены проводить коммунистические опыты… делать скачки, о которых мы сами отлично знаем, насколько они несвоевременны… наступит реакция, и прежде чем мир будет в состоянии дать историческую оценку, нас станут считать не только чудовищами…» [20, с. 491].
Многие выдающиеся умы человечества давно отвергли эту социальную опаснейшую смертоносную иллюзию. Знаменитый психоаналитик Зигмунд Фрейд в своей знаменитой лекции «О мировоззрении» справедливо отметил, что марксисты своей теорией попытались заменить Библию или Коран. Главная причина краха их идеи состоит в том, что невозможно в течение жизни немногих поколений изменить человеческую природу так, что при новом общественном строе люди без принуждения примут так называемые «новые задачи труда». Он считал, что «…энтузиазм, с которым толпа следует в настоящее время большевистскому призыву... не даёт никакой гарантии на будущее». Он считал, что мина взорвётся тогда, когда им (коммунистам. — И. Ч. ) придётся отвечать перед своими верующими за «страдания и лишения настоящей жизни» [21, с. 239].
Российские большевики не прислушались к предостережениям. Всем достаточно хорошо известны изречения В. И. Ленина о необходимости «революционного террора». Идеологию террора практически разработал В. И. Ленин применительно к собственному народу. Известно много документов, где приводятся рекомендации по использованию форм и методов «революционного террора», приведем один из них — телеграмму В. И. Ленина пензенским коммунистам 11 августа 1918 года:
«В Пензу 11/8 1918. Товарищам Кураеву, Боне, Минкину и другим пензенским коммунистам. Восстание пяти волостей кулачья должно привести к беспощадному подавлению. Этого требует интерес всей революции, ибо теперь взят «последний, решающий бой» с кулачьем. Образец этого дать.
-
1. Повесить (непременно повесить), дабы народ видел не меньше 100 заведомых кулаков, богатеев, кровопийц.
-
2. Опубликовать их имена.
-
3. Отнять у них весь хлеб.
-
4. Назначить заложников согласно вчерашней телеграмме. Сделать так, чтобы на сотни верст кругом народ видел, трепетал, знал, кричал: душат и задушат кровопийц и кулаков.
-
5. Телеграфируйте получение и исполнение.
Ваш Ленин» [22].
Было бы ошибкой утверждать, что лидеры большевиков были в безысходной ситуации периода Гражданской войны, когда речь шла о выживании Советской Республики в условиях противоборства с белым движением, интервентами. По мнению Ленина, государственный террор должен был стать одной из основ государственного строя. 17 мая 1922 года, уже после окончания Гражданской войны, В. И. Ленин пишет Наркому юстиции Курскому следующие «инструкции» о работе «пролетарского суда»: «Суд должен не устранять террор…, а обоснованно узаконить его принципиально, ясно… формулировать его как можно шире, ибо только революционное самосознание и совесть позволяют условия применения его на деле более или менее широко» [23, с. 189].
Обратимся к работам других видных большевиков, в частности Л. Д. Троцкого, который писал: «…режим всеобщей трудовой повинности должен поддерживаться мерами принудительного характера… репрессии для достижения хозяйственных целей есть необходимое орудие социалистической диктатуры» [24, с. 14]. Вот выдержка из выступления одного из идеологов трудовой повинности в стране Л. Д. Троцкого на IX съезде РКП(б) весной 1920 года: «Рабочие и крестьяне постоянно должны находиться на положении мобилизованных солдат, из них необходимо формировать трудовые части, которые по типу приближаются к воинским частям. Каждый должен считать себя солдатом труда, который не может собой распоряжаться» [25, с. 92—94].
В одной из резолюций этого съезда было записано: «…Поскольку гражданская война заканчивается, а международное положение Советской республики благоприятное на будущий период... вводится милиционная система экономики, которая должна состоять во всемерном приближении армии к производственному процессу, так, что живая человеческая сила определённых хозяйственных районов является в то же самое время живой человеческой силой определённых воинских частей» [26, с. 265]. Руководство страны, окрылённое определёнными успехами в проведении трудовой повинности, планировало её осуществление в течение длительного времени даже после окончания Гражданской войны, что в корне противоречит утверждениям некоторых исследователей о временном характере трудовой повинности и милитаризации труда [27, с. 59].
Небезызвестный Н . И . Бухарин отмечал : «Про - летарское принуждение во всех своих формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, является методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи» [28, с. 335].
По мнению профессора А. А. Иванова, сами репрессии нельзя отделять от репрессивной политики, проводимой государством [29, с. 4]. Полностью поддерживая его взгляды, мы считаем, что руководители Советского государства, находясь в плену бредовых, фантастических представлений о строительстве «общества всеобщего благоденствия», и поддерживающие их слои населения буквально с первых дней после своего насильственного прихода во власть начали проводить социально-экономические репрессии, направленные против подавляющей части населения страны.
Репрессивная политика руководителей большевистского государства имела три стороны.
Первая — социально-экономическая подоплека . Коммунистические власти безвозмездно конфисковали помещичьи земли, отняли у законных владельцев промышленные предприятия, финансовые капиталы, другую частную собственность, включая художественные коллекции [30, с. 34]. Если вышеперечисленные мероприятия коснулись относительно небольшого количества граждан России, то последующие действия уже были направлены против остального населения страны, не считая нескольких миллионов маргиналов, которым действительно было нечего терять [31].
В ходе политики «военного коммунизма», первой коллективизации (1919—1920 гг.) была безвозмездно конфискована или разбазарена кооперативная, крестьянская, церковная (общественная) собственность. Разгром банков и других кредитно-финансовых институтов привел к тому, что в результате спровоцированной большевиками гиперинфляции большинство граждан страны — горожан лишились средств к существованию [32, л. 129—130]. В Средневолжских губерниях, как и в целом по стране, развернулась кампания по массовому насильственному изъятию у населения драгоценностей, золотых и серебряных вещей, ранее в коммерческих банках были изъяты все хранящиеся там драгоценности граждан.
Несколько раз власти требовали у населения под страхом расстрела сдать все имеющиеся у них драгоценности в отделения Народного банка. По всей стране развернулись обыски и облавы, неприкосновенность личности, жилища, а порой и самой жизни в связи с этим потеряла всякий смысл. Одновременно кампании по массовому изъятию золотых вещей были проведены в лагерях военнопленных, оставшихся на территории губерний со времён Первой мировой войны [32, л. 124].
С декабря 1918 года было категорически запрещено проведение всевозможных лотерей. У населения Самарской губернии в ходе массовых реквизиций и обысков было изъято драгоценностей на 250 тысяч рублей, подобные ме- роприятия были осуществлены и в Казанской губернии [33, л. 33—55]. В Пензенской губернии специальным решением местные власти конфисковали «в пользу казны» не только все ценности, найденные у граждан, но и имеющиеся в ювелирных магазинах [34, л. 143]. В бывшем Симбирском городском банке было отнято ценностей, предоставленных на хранение клиентами, на сумму 245 тысяч 600 рублей и ценностей, вложенных в банковские вклады частных лиц, на сумму 521 тысяча 761 рубль (в ценах 1913 года). В Симбирском обществе взаимного кредита были отняты деньги вкладчиков на сумму 1 миллион 599 тысяч 363 рубля [35].
Помимо опосредованного ограбления своих граждан, большевистская власть в рамках политики экономического террора организовала при помощи подвластных им вооруженных формирований открытое ограбление граждан. В городах вооруженные люди вламывались в квартиры простых граждан и отнимали все, что понравится [36].
В деревнях другие вооруженные люди выгребали «под метелку» не только весь хлеб, но и все найденное продовольствие [34, л. 143—145]. Фактов произвола и злоупотреблений при сборе продразвёрстки в российских губерниях было очень много. Вот типичный пример работы продотряда в селе Репьёвка Симбирского уезда Симбирской губернии. Продотряд, который возглавлял некто Кузнецов, продразвёрстку проводил по-воровски, ночью, чтобы не вызвать массового недовольства озлобленных крестьян. Всего собрали 10 960 пудов зерна, зачётные квитанции при этом не выдавались. Затем выдали квитанции на 4000 пудов, на остальной хлеб квитанции выдавать не захотели [37]. В селе Старая Майна Мелекесского уезда Самарской губернии продразвёрстка сопровождалась арестами и избиениями крестьян [38, л. 32]. В Бугурусланском уезде той же губернии имели место случаи, когда собранный хлеб вываливали на снег [39]. В Казанской губернии продразвёрстка проводилась таким образом, что крестьянам почти не оставляли продовольствия на пропитание, практически всё отнималось подчистую [40]. Случаи избиений и грубого обращения продотрядников с крестьянами отмечены и в Чебоксарском уезде [41].
В городах по приказу местных властей оцепляли рынки, грабили без разбору всех торговцев, увозя награбленное подводами неизвестно куда. По свидетельству многочисленных очевидцев, эти мероприятия проводились примерно по следующей схеме: внезапно рынки оцепля- лись отрядами вооружённых людей, как, например, в Симбирске 7 июля 1920 года. Начиналась повальная конфискация продовольствия с погрузкой реквизированного на специально подошедшие подводы. Взятое у торговцев не записывалось, не учитывалось, многое исчезало в мешках и карманах людей, производящих реквизицию, квитанций о конфискации товаров и продуктов не выдавалось, с запертых лавок срывались замки, их содержимое также изымалось [42].
Особо стоит сказать о повальном разграблении церковной собственности, создаваемой в течение столетий на народные средства мирян. Это происходило в 1922—1923 годы, когда уже не было Гражданской войны, и государственные грабители прикрывались «необходимостью борьбы с голодом», который как раз и был следствием их политики [43]. Данная политика тотально продолжалась вплоть до смерти И. В. Сталина в 1953 году, только она оправдывалась новыми политическими лозунгами.
Вначале это была необходимость проведения «социалистической» коллективизации и т. д. Эксперимент с коллективизацией стоил народу неслыханных бедствий. Только в 1929 году произошло 1300 массовых выступлений крестьян против творимого беспредела, в которых, по официальным данным, приняло участие 240 тысяч человек [44, с. 6]. Власть ответила невиданными репрессиями: арестами, расстрелами и высылками. Пострадали несколько миллионов самых хозяйственных, работящих и эффективных крестьян. Выселение «кулаков» продолжалось вплоть до 1933 года, а во вновь приобретенных территориях Прибалтики, Бессарабии, Западной Украины и Белоруссии — вплоть до середины 1950-х годов [45].
Процесс индустриализации, а с 1944 года — «национальных разбирательств», сопровождался насильственным переселением на необжитые, плохо обустроенные места десятков миллионов людей. Многие граждане были выброшены из своих квартир и насильно переселены в сельскую местность, особенно жестоко этот процесс происходил в г. Ленинграде во времена правления С. М. Кирова, а также в других городах [46]. То есть экономический террор сопровождался террором социальным, когда миллионы граждан подверглись социальной дискриминации, были лишены политических, избирательных прав.
Начиная с 1929 года, когда было принято специальное постановление Политбюро ЦК РКП(б) и Совнаркома о расширении использова- ния труда заключенных, в труднодоступных районах СССР были созданы сотни и тысячи лагерей, вошедших в систему ГУЛАГа. В заключении в нечеловеческих условиях оказались миллионы граждан СССР [44, с. 128].
Соответственно, такое широкомасштабное, всестороннее, жестокое насилие над подавляющей частью населения огромной страны не могло не вызвать массового противодействия. Это не было сопротивлением лишь одних «бывших эксплуататоров» творимому насилию и беспределу. Ведь как видно из вышесказанного, государственный большевистский террор затронул не только дворян, казачество, духовенство, но и простых рабочих, крестьян, матросов и солдат. Как образно выразился А. Авторханов, Советская Россия из дореволюционной «тюрьмы народов» превратилась в «могилу народов» [47, с. 45—46]. Вначале Россия пережила кровопролитную, братоубийственную Гражданскую войну, но следует сказать особо о том, что если белый террор носил спонтанный, стихийный характер, нередко перераставший в месть, то красный террор направлялся руководителями государства [48].
Процитируем уже упомянутого А. А. Иванова, который считал, что репрессивная политика властей своим острием была направлена «…против значительной части своего народа, которая не разделяла или противилась установкам правящей партии» [49, с. 4].
Это и есть вторая сторона государственного террора — подавление внутренней оппозиции , то есть массового сопротивления населения страны творимому красному беспределу. Его основными направлениями были вначале арест и уничтожение лидеров легальной оппозиции: кадетов, октябристов. Потом пришла очередь меньшевиков, эсеров, левых эсеров и других партий. Одновременно была разгромлена непримиримая вооруженная оппозиция — белое движение.
Во время подавления массовых крестьянских восстаний в 1918—1921 гг. была уничтожена крестьянская оппозиция. Репрессии носили массовый характер. Только при подавлении «чапанного восстания» в Симбирской и Самарской губерниях в 1919 году, а также при подавлении «вилочного восстания» в Казанской и Вятской губерниях в 1920 году были расстреляны тысячи крестьян [50].
Изъятие продовольствия в период политики продразверстки сопровождалось массовыми расстрелами в деревне, вся зажиточная, наиболее производительная часть деревни, формиро- вавшаяся в России и на Руси в течение многих столетий, была объявлена «врагами народа», расстреляна, оставшиеся в живых обобраны «до нитки» и сосланы. В губерниях была установлена коллективная ответственность за выполнение этих нереальных в сложившихся условиях планов. Суть «нововведения» заключалась в том, что если какая-либо деревня, волость не выполнит планов продразвёрстки, то всему населению «провинившейся деревни» или волости власти устанавливали для потребления так называемую «голодную норму». Всё продовольствие подчистую отбирали и оставляли продукты в таком мизерном количестве, что уже через 3—3,5 месяца в этих населённых пунктах начинался настоящий голод. Власти, чтобы выполнить разнарядку, спущенную с центра, не щадили ни стариков, ни женщин, ни детей. На членов сельских и волостных Советов в этих районах обрушивались ещё более жестокие, чем в 1919 году, кары. Их подвергали контрибуциям, поголовно экспроприировали имущество, а их самих и членов их семей в массовом количестве арестовывали и отправляли в концентрационные лагеря [50].
Вне закона было объявлено рабочее забастовочное движение. В ходе петроградского, астраханского, ижевского, сормовского, воткинского расстрелов было уничтожено забастовочное движение [51]. Жестоко были подавлены рабочие забастовки в начальный период нэпа [52]. В конечном счете, было ликвидировано оппозиционное рабочее движение, в Кронштадте в 1921 году было уничтожено оппозиционное движение среди революционных матросов. Уничтожены тысячи красных моряков, составлявших «красу и гордость революции». В 1920-е годы была уничтожена внутрипартийная оппозиция, когда преследовали не за дела, а за убеждения, противоречащие «генеральной линии партии» [53].
Третьей стороной государственного террора являются профилактические репрессии. Их главная цель — устрашение, подавление у народа воли к какому-либо сопротивлению [53]. Здесь уже пострадали люди, которые никакого участия в оппозиционном движении не принимали. Важным средством для приведения к покорности многотысячных масс городского и сельского населения, а также способом укрепления вновь создаваемого общественно-политического строя стала система наказаний и система морального подавления и террора. Её главнейшими задачами были поддержание в «рабочем» состоянии всей системы внеэкономическо- го трудового принуждения, а также пресечение малейшего недовольства населения. Важнейшим элементом функционирования всей системы внеэкономического трудового принуждения, проводимого государством, стали концентрационные лагеря, учрежденные по указу В. И. Ленина в 1919 году [54].
Основная масса репрессированных ни в каких оппозиционных действиях не участвовала, не совершала никаких уголовно наказуемых действий, никак не обнаруживала своего негативного отношения к власти, а подпадала под каток социально-экономических репрессий из-за своего социального положения, национального происхождения, религиозных убеждений и церковного сана, принадлежности к «непролетарским» партиям и т. п. [54].
К их числу относится взятие и уничтожение заложников из числа представителей «имущих классов», направление в концентрационные лагеря лиц, «отлынивающих от работы», и представителей «бывших эксплуататорских классов» [55]. Расширились аресты задержанных в ходе «облав», «революционные децимации» в армии, репрессии по отношению к совершенно безвинным людям, ложно обвиняемым в «преступлениях», которые они не совершали. О том, что профилактический террор генерировали местные власти, красноречиво говорят документы. Рассмотрим обращение Симбирского губкома РКП(б) к коммунистам и советским работникам от 3 декабря 1918 года: «…В город Симбирск возвратилось, особенно в последнее время, много буржуазного офицерства, попов, чиновников, барынек и прихлебателей, которые распространяют разными способами ложь и нелепые провокационные слухи, мутят население города... поэтому следовало бы принять суровые меры тому, кому надлежит обуздать всю эту сволочь, дабы не было проведено контрреволюционной работы этими гадами» [56].
Страшной оказалась и «социальная чистка», когда целые огромные группы населения России были поставлены «вне закона». Репрессии не обошли стороной большинство царских офицеров, отказавшихся вступить в РККА, жандармов, священнослужителей, большую часть старой дореволюционной интеллигенции. Власть это делала не потому, что они приняли участие в какой-либо оппозиционной деятельности, а только потому, что они потенциально могли быть «втянутыми в оппозиционную деятельность». Один из сподвижников «железного Феликса» и руководитель ВЧК Отто Лацис так напутствовал следственных работников-чекистов:
«…не ищите на следствии материалов и документов того, что обвиняемый словом и делом действовал против Советов. Главное здесь… к какому классу он принадлежит, какого он происхождения, воспитания и образования… Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого» [57, с. 284—303].
О том, какие это меры, подробно расписано на пленуме Самарского губкома РКП(б) 29 сентября 1919 года в резолюции «О борьбе с белым террором». Исходя из «рекомендаций» вышеназванной резолюции, самарские власти развернули беспрецедентный профилактический террор. В городах и уездах начали немедленно изолировать всех «праздношатающихся» с последующим их арестом и заключением в концентрационные лагеря. К людям, которые были обвинены в «преступном проникновении» в коммунистическую партию, даже если они ничего и не совершили, применялся расстрел. Всячески подогревалась кампания «беспощадной расправы» с «лицами, дезорганизующими работу государственных учреждений» (под эту формулировку можно было подвести даже любую оплошность на рабочем месте). В массовом количестве стали браться заложники из остающихся представителей буржуазии, промышленников, любых представителей состоятельных до революции людей.
В принятом постановлении была и такая формулировка: «К лицам из среды буржуазии, враждебность которых по отношению к Советской власти не вызывает в ЧК сомнений, хотя бы она не проявилась в конкретных выступлениях, — применять расстрел». Это означало не что иное, как физическое геноцидальное уничтожение представителей бывших имущих классов и социальных групп [58]. В результате проведённых арестов, расстрелов, контрибуций, организованных и стихийных экспроприаций произошло полное ограбление экономической, социальной и политической элиты губерний. Впоследствии продолжающиеся аресты, концлагеря, принудительный труд завершили полную экономическую и социально-политическую ликвидацию этих сословий. У Пол Пота и Иенг Сари были хорошие «учителя»!
Троцкий Л. Д., комментируя высылку в 1922 году за пределы России ее лучших умов, философов, историков, литераторов, экономистов, филологов, олицетворением чего стал пресловутый «философский пароход», так оценил суть происходящего: «…мы выслали этих людей потому, что расстрелять их у нас не было повода, а терпеть было невозможно» [59, с. 121]. Ре- прессии 1934—1941 гг., пик которых пришелся на 1937—1938 гг., были направлены главным образом против коммунистической элиты, партийной и государственной номенклатуры, командиров РККА и РККФ [53]. Сталин и его окружение просто «заменили» одну государственную элиту (номенклатуру) на другую, более преданную и бескомпромиссную.
Не следует считать, что последователи И. В. Сталина прекратили репрессивную политику. Как недавно стало известно, преемник вождя Н. С. Хрущев в период с 1953 по 1960 гг. санкционировал привлечение к уголовной ответственности только по слегка измененной статье 58-10 УК РСФСР 10 тысяч человек [60, с. 289].
В период Великой Отечественной войны репрессии приобрели форму депортаций неугодных народов. Начали с депортации немцев в 1941 году, число депортированных составило 1 миллион 200 тысяч человек [61]. Вслед за немцами были депортированы чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы, калмыки, крымские татары. Число депортированных превысило 1 миллион человек, при этом в связи с тем, что переселение осуществлялось в спешке, тысячи «переселенцев» не доехали до места назначения [62]. В 1946—1947 гг. были репрессированы миллионы репатриированных граждан и военнослужащих РККА, оказавшихся в фашистском плену. А. И. Солженицын считал, что за период коммунистического режима в Советской России и СССР всего было репрессировано по политическим мотивам 66 миллионов 700 тысяч человек [63, с. 215]. Цифры, приведенные А. Анто-новым-Овсеенко и М. В. Капустиным, мало отличаются от данных, опубликованных А. И. Солженицыным [64].
Даже бывший член Политбюро ЦК КПСС А. Н. Яковлев в своей книге пишет: «За 70 лет большевистского режима менялись формы репрессий, но причины и суть произвола оставались неизменными. Режим, лидеры господствующей верхушки шли на любые преступления против человечности во имя укрепления моновласти, моноидеологии, монособственности» [65, с. 6].
Социально-экономическое, политическое насилие в Советской России и СССР было государственным террором, так как направлялось и руководилось государством в виде призывов, указаний, директив и декретов. Эти документы подписывались конкретными людьми, их содержание шло вразрез с существующим на тот момент российским законодательством и нормами тогдашнего международного права, поэтому их деятельность, безусловно, носила преступный характер.
Конечно, в 1920—1930-е годы и более позднее время этими лицами были проведены законы, другие нормативно-правовые акты, допускающие репрессии, но это ни в коей мере не является оправданием их деятельности. Принятие репрессивного законодательства можно трактовать как то, что если бы гипотетически в отдельно взятой стране к власти пришла бы банда уголовных преступников, она бы переделала действующее на тот момент в стране законодательство, тем самым законодательно легитимизировав свою преступную деятельность. Примерно то же самое произошло и в нашей стране.
Мы надеемся, что наши потомки, когда для этого будут созданы необходимые условия и возможности, дадут истинную, объективную оценку «деятельности» руководителей навязанного народу коммунистического режима и его преступлениям.
Таким образом, социально-экономические и политические репрессии не являются «изобретением» советского коммунистического режима, а сконцентрировали в себе весь исторический «политический» опыт, накопленный в истории человеческого общества. Однако они далеко по своему масштабу и направленности использованных методов превосходят весь негативный человеческий опыт, накопленный в этой сфере.
В истории советского общества имели место все четыре типа политических и социальноэкономических репрессий. Если в первые годы советской власти и в последующие 1920—1930-е годы репрессии носили глубинный характер, затрагивая представителей практически всех сословий, проживающих в бывшей дореволюционной России, нередко переходили в социальный геноцид, например, по отношению к дворянству и казачеству, которых истребляли как сословия, то в 1930—1950-е годы наряду с глубинными репрессиями (по отношению к крестьянам, выселяемым народам, репатриантам и военнопленным бойцам и командирам) стали проявляться репрессивный действия, носящие верхушечный характер, когда в поле деятельности карательных органов уже попадали представители правящей элиты.
Невиданные, несопоставимые ни с одной страной мира политические, социально-экономические репрессии были обусловлены тем, что у пришедшей в результате государственного переворота политической группировки отсутствовала серьезная социальная база, а сами они пытались насадить большей части населения страны утопическую, человеконенавистническую программу, базирующуюся на политической фантасмагории и демагогии. Эта программа была отвергнута большей частью населения страны и ее пришлось навязывать в условиях тотального сопротивления людей, боровшихся за саму возможность мирно существовать и созидать.
-
1. Клан — политическая группировка внутри правящего слоя (элиты) конкретного общества, государства, племени, объединенная едиными политическими, экономическими, социальными целями для установления политического господства. В древних и средневековых общностях — это отдельно взятый род, несколько родов составляют племя. Применительно к более современным обществам, клан — понятие для обозначения политической группировки в правящей элите общества.
-
2. Брехт Бертольд. Мамаша Кураж и ее дети. Хроника времен Тридцатилетней войны. М. : Искусство, 1957. С. 112—118; Лависс Э., Рамбо А. Всеобщая история с IV столетия до нашего времени. Религиозные войны. Т. V. СПб., 1900. С. 45—59.
-
3. См.: Валлон А. История рабства в древнем мире. М., 1941. С. 113—115.
-
4. См.: Тайпинское восстание 1850—1864 гг. : сб. док. М. : Изд-во Восточной лит., 1960; Корсаков В. В. Пекинские события. Личные воспоминания участника об осаде в Пекине. Май-август 1900 г. СПб. : Тип. А. С. Суворина, 1901.
-
5. Хитцель Ф. Османская империя. М. : Вече, 2006. С. 201—202.
-
6. Вандейские войны // Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). СПб., 1890—1907. Т. 5 А (10). С. 144—145.
-
7. Геноцид армян в Османской империи : Сб. док. и материалов / под ред. Н. Г. Нерсисяна. Изд. 2-е, доп. Ереван : Айястан, 1983.
-
8. Мельгунов С. П. Мартовские дни 1917 года. М., 2006. С. 98; Мартынов Е. И. Царская армия в февральском перевороте // Мартынов Е. И. Политика и стратегия / под ред. С. В. Степашина [и др.]. М., 2003. С. 222.
-
9. См.: Лосев Е. Миронов. М., 1991. С. 323—324; Спирин Л. М. Классы и партии в Гражданской войне в России. М., 1968. С. 322—324; Венков А. Печать сурового исхода. Ростов н/Д, 1988. С. 124—125.
-
10. Крузе Д. Монархическая власть и таинство смысла: сообщение о Варфоломеевской резне // Варфоломеевская ночь: события и споры : сб. ст. М. : РГГУ, 2001. С. 102—137.
-
11. Повесть о походе Ивана IV на Новгород // Изборник. М., 1969. С. 477. (Сер. «Библиотека всемирной литературы»).
-
12. Бичурин И. История первых четырех ханов из дома Чингизова. СПб., 1829. С. 155.
-
13. Рублев А. Африканские скелеты в американском шкафу // Империя лжи. URL: http://www.rusbeseda.ru /index.php?topic=3817.0;wap2.
-
14. См.: Бектимирова Н. Н., Дементьев Ю. П., Кобелев Е. В. Новейшая история Кампучии. М. : Наука, 1989; Мосяков Д. В. Кампучия: особенности революционного процесса и полпотовский «эксперимент». М. : Наука, 1986.
-
15. Ситников В. В., Чуканов И. А. Реализация экономической программы большевистской партии в период становления Советского государства (1917—1930 годы) : моногр. Самара : Изд-во «НТЦ», 2007. С. 114—116.
-
16. Сенников Б. В. Тамбовское восстание 1918— 1921 гг. и раскрестьянивание России 1929—1933 гг. М. : Посев, 2004.
-
17. Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти. 1917—1943 гг. / сост. М. Е. Губонин. М., 1994.
-
18. Арну А. История инквизиции. СПб., 1995.
-
19. Яковлев А. Ю. Индия: террор и антитеррор : мо-ногр. М., 2012.
-
20. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения : в 50 т. 1954— 1986. Т. 28. М. : Госполитиздат, 1962.
-
21. Фрейд З. 35 лекция «О мировоззрении» // Основы психоанализа. М. : Наука, 1989.
-
22. РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 6898. Л. 9.
-
23. Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 45.
-
24. Цит. по: Фролов Н. С. Трагедия народа. Казань : Память, 1999.
-
25. IX съезд РКП(б). Протоколы. М. : Госполитиздат, 1960.
-
26. Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях, решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. М. : Политическая лит., 1983. Т. 2.
-
27. Чунтулов В. Т. Экономическая история СССР : учеб. для экономических вузов. М. : Высш. шк., 1987.
-
28. Цит. по: Бушков А. А. Сталин. Красный монарх. СПб. : Изд. дом «Нева», 2004.
-
29. Политические репрессии в Татарской АССР сквозь призму подлинных документов и воспоминаний. Казань : Редакция Книга Памяти, 2011.
-
30. Труды Всероссийского съезда заведующих финансовыми отделами. М., 1919.
-
31. Государственный архив Ульяновской области (далее — ГАУО). Ф. 200. Оп. 2. Д. 392. Л. 4—5.
-
32. ГАУО. Ф. 200. Оп. 1. Д. 125.
-
33. НАРТ. Ф. 98. Оп. 1. Д. 40. Л. 33 — 55 об.
-
34. ГАПО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 13.
-
35. ГАУО. Ф. 183. Оп. 8. Д. 45. Л. 55.
-
36. ГАУО. Ф. 200. Оп. 2. Д. 113. Л. 4
-
37. ГАУО. Ф. 200. Оп. 2. Д. 230. Л. 124.
-
38. ГАУО. Ф. 200. Оп. 2. Д. 357. Л. 1; Д. 263. Л. 32.
-
39. ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 266. Л. 47.
-
40. НАРТ. Ф. 98. Оп. 1. Д. 61. Л. 38 об.
-
41. НАРТ. Ф. 98. Оп. 1. Д. 212. Л. 6 об.
-
42. ГАУО. Ф. 200. Оп. 2. Д. 124. Л. 101.
-
43. ГАУО. Ф. 200. Оп. 4. Д. 13. Л. 34—36.
-
44. Школьные уроки по теме: «История политических репрессий и сопротивление несвободе в СССР». М. : Права человека, 2004.
-
45. История Украины. Коллективизация. URL: http:// instiel.uzhgorod.ua/post/show/4_ kollektivizacija_i.
-
46. Кирилина А. Неизвестный Киров. СПб. : Нева ; М. : ОЛМА-Пресс, 2001. С. 112—114.
-
47. Авторханов А. Империя Кремля. Советский тип колониализма. Берлин, 1988.
-
48. См.: Мельгунов С. П. Красный террор в России. 1918—1923. Изд. 2-е, доп. Берлин, 1924.
-
49. Политические репрессии в Татарской АССР сквозь призму подлинных документов и воспоминаний. Казань : Редакция Книга Памяти, 2011.
-
50. ГАУО. Ф. 2720. Оп. 1. Д. 11. Л. 22, 72.
-
51. См.: Борисова Л. В. Трудовые отношения в Советской России (1918—1924). М., 2003; Питерские рабочие и «диктатура пролетариата». Октябрь 1917—1929. Документы и материалы : сб. док. СПб., 2000; Чураков Д. О. Революция, государство, рабочий протест: формы, динамика и природа массовых выступлений рабочих в Советской России в 1917—1918 гг. М., 2004; Народное сопротивление коммунизму в России. Независимое рабочее движение в 1918 году. Париж, 1981.
-
52. РЦХИДНИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 166. Л. 3; Д. 208. Л. 12.
-
53. Государство против своего народа. Черная книга коммунизма. URL: http://www.goldentime.ru/nbk_ 09.htm.
-
54. ГАСО. Ф. 81. Оп. 2. Д. 146. Л. 154.
-
55. ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 92 а. Л. 14.
-
56. Цит. по: ГАУО. Ф. 200. Оп. 2. Д. 120. Л. 44.
-
57. Книга памяти жертв политических репрессий. Бутовский полигон 1937—1938 гг. Вып. 6. М., 2006.
-
58. ГАСО. Ф. 81. Оп. 67. Д. 18. Л. 354.
-
59. Социологические исследования. 1990.
-
60. Бушков А. А. Ледяной трон. СПб. : Изд. дом «Нева», 2005.
-
61. Черная книга коммунизма. Три века истории. М., 2001.
-
62. История России. XX век : Школьный слов.-справ. / под общ. ред В. В. Барабанова. М. : Астрель АСТ, 2002.
-
63. Книга рекордов Гиннеса. М. : Изд-во АСТ, 1989.
-
64. Литературная газета. 1996. 17 окт.; Капустин М. В. Конец утопии? Прошлое и будущее социализма. М., 1990. С. 113—149.
-
65. Яковлев А. Н. По мощам елей. М., 1995.
Список литературы Репрессии как одна из краеугольных основ тоталитарного строя социалистического толка
- Брехт Бертольд. Мамаша Кураж и ее дети. Хроника времен Тридцатилетней войны. М.: Искусство, 1957. С. 112-118
- Лависс Э., Рамбо А. Всеобщая история с IV столетия до нашего времени. Религиозные войны. Т. V. СПб., 1900. С. 45-59.
- Валлон А. История рабства в древнем мире. М., 1941. С. 113-115.
- Тайпинское восстание 1850-1864 гг.: сб. док. М.: Изд-во Восточной лит., 1960
- Корсаков В. В. Пекинские события. Личные воспоминания участника об осаде в Пекине. Май-август 1900 г. СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1901.
- Хитцель Ф. Османская империя. М.: Вече, 2006. С. 201-202.
- Вандейские войны//Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). СПб., 1890-1907. Т. 5 А. (10). С. 144-145.
- Геноцид армян в Османской империи: Сб. док. и материалов/под ред. Н. Г. Нерсисяна. Изд. 2-е, доп. Ереван: Айястан, 1983.
- Мельгунов С. П. Мартовские дни 1917 года. М., 2006. С. 98
- Мартынов Е.И. Царская армия в февральском перевороте//Мартынов Е. И. Политика и стратегия/под ред. С. В. Степашина [и др.]. М., 2003. С. 222.
- Лосев Е. Миронов. М., 1991. С. 323-324
- Спирин Л. М. Классы и партии в Гражданской войне в России. М., 1968. С. 322-324
- Венков А. Печать сурового исхода. Ростов н/Д., 1988. С. 124-125.
- Крузе Д. Монархическая власть и таинство смысла: сообщение о Варфоломеевской резне//Варфоломеевская ночь: события и споры: сб. ст. М.: РГГУ, 2001. С. 102-137.
- Повесть о походе Ивана IV на Новгород//Изборник. М., 1969. С. 477. (Сер. «Библиотека всемирной литературы»).
- Бичурин И. История первых четырех ханов из дома Чингизова. СПб., 1829. С. 155.
- Рублев А. Африканские скелеты в американском шкафу//Империя лжи. URL: http://www.rusbeseda.ru/index.php?topic=3817.0;wap2.
- Бектимирова Н.Н., Дементьев ЮП., Кобелев Е. В. Новейшая история Кампучии. М.: Наука, 1989; Мосяков Д. В. Кампучия: особенности революционного процесса и полпотовский «эксперимент». М.: Наука, 1986.
- Ситников В. В., Чуканов И. А. Реализация экономической программы большевистской партии в период становления Советского государства (1917-1930 годы): моногр. Самара: Изд-во «НТЦ», 2007. С. 114-116.
- Сенников Б. В. Тамбовское восстание 1918-1921 гг. и раскрестьянивание России 1929-1933 гг. М.: Посев, 2004.
- Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти. 1917-1943 гг./сост. М. Е. Губо-нин. М., 1994.
- Арну А. История инквизиции. СПб., 1995.
- Яковлев А. Ю. Индия: террор и антитеррор: моногр. М., 2012.
- Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения: в 50 т. 1954-1986. Т. 28. М.: Госполитиздат, 1962.
- Фрейд З. 35 лекция «О мировоззрении»//Основы психоанализа. М.: Наука, 1989.
- РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 6898. Л. 9.
- Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 45.
- Фролов Н. С. Трагедия народа. Казань: Память, 1999.
- IX съезд РКП (б). Протоколы. М.: Госполитиздат, 1960.
- Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях, решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. М.: Политическая лит., 1983. Т. 2.
- Чунтулов В. Т. Экономическая история СССР: учеб. для экономических вузов. М.: Высш. шк., 1987.
- Бушков А. А. Сталин. Красный монарх. СПб.: Изд. дом «Нева», 2004
- Политические репрессии в Татарской АССР сквозь призму подлинных документов и воспо минаний. Казань: Редакция Книга Памяти, 2011
- Труды Всероссийского съезда заведующих финансовыми отделами. М., 1919
- Государственный архив Ульяновской области (далее -ГАУО). Ф. 200. Оп. 2. Д. 392. Л. 4-5.
- ГАУО. Ф. 200. Оп. 1. Д. 125.
- НАРТ. Ф. 98. Оп. 1. Д. 40. Л. 33 -55 об.
- ГАПО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 13.
- ГАУО. Ф. 183. Оп. 8. Д. 45. Л. 55.
- ГАУО. Ф. 200. Оп. 2. Д. 113. Л. 4
- ГАУО. Ф. 200. Оп. 2. Д. 230. Л. 124.
- ГАУО. Ф. 200. Оп. 2. Д. 357. Л. 1; Д. 263. Л. 32.
- ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 266. Л. 47.
- НАРТ. Ф. 98. Оп. 1. Д. 61. Л. 38 об.
- НАРТ. Ф. 98. Оп. 1. Д. 212. Л. 6 об.
- ГАУО. Ф. 200. Оп. 2. Д. 124. Л. 101.
- ГАУО. Ф. 200. Оп. 4. Д. 13. Л. 34-36.
- Школьные уроки по теме: «История политических репрессий и сопротивление несвободе в СССР». М.: Права человека, 2004.
- История Украины. Коллективизация. URL: http://instiel.uzhgorod.ua/post/show/4_ kollektivizacijaj.
- Кирилина А. Неизвестный Киров. СПб.: Нева; М.: ОЛМА-Пресс, 2001. С. 112-114.
- Авторханов А. Империя Кремля. Советский тип колониализма. Берлин, 1988.
- Мельгунов С. П. Красный террор в России. 1918-1923. Изд. 2-е, доп. Берлин, 1924.
- Политические репрессии в Татарской АССР сквозь призму подлинных документов и воспоминаний. Казань: Редакция Книга Памяти, 2011.
- ГАУО. Ф. 2720. Оп. 1. Д. 11. Л. 22, 72.
- Борисова Л. В. Трудовые отношения в Советской России (1918-1924). М., 2003
- Питерские рабочие и «диктатура пролетариата». Октябрь 1917-1929. Документы и материалы: сб. док. СПб., 2000
- Чураков Д. О. Революция, государство, рабочий протест: формы, динамика и природа массовых выступлений рабочих в Советской России в 1917-1918 гг. М., 2004
- Народное сопротивление коммунизму в России. Независимое рабочее движение в 1918 году. Париж, 1981.
- РЦХИДНИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 166. Л. 3; Д. 208. Л. 12.
- Государство против своего народа. Черная книга коммунизма. URL: http://www.goldentime.ru/nbk_ 09.htm.
- ГАСО. Ф. 81. Оп. 2. Д. 146. Л. 154.
- ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 92 а. Л. 14.
- ГАУО. Ф. 200. Оп. 2. Д. 120. Л. 44.
- Книга памяти жертв политических репрессий. Бутовский полигон 1937-1938 гг. Вып. 6. М., 2006.
- ГАСО. Ф. 81. Оп. 67. Д. 18. Л. 354.
- Социологические исследования. 1990.
- Бушков А. А. Ледяной трон. СПб.: Изд. дом «Нева», 2005.
- Черная книга коммунизма. Три века истории. М., 2001.
- История России. XX век: Школьный слов.-справ./под общ. ред В. В. Барабанова. М.: Астрель АСТ, 2002.
- Книга рекордов Гиннеса. М.: Изд-во АСТ, 1989.
- Литературная газета. 1996. 17 окт.; Капустин М. В. Конец утопии? Прошлое и будущее социализма. М., 1990. С. 113-149.
- Яковлев А. Н. По мощам елей. М., 1995.