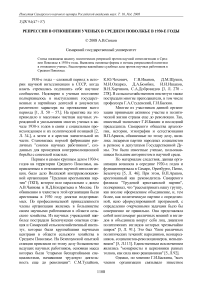Репрессии в отношении ученых в Среднем Поволжье в 1930-е годы
Автор: Сюков А.В.
Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc
Рубрика: Отечественная история
Статья в выпуске: 4 т.10, 2008 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу политических репрессий против научной интеллигенции в Среднем Поволжье в 1930-е годы. Выявлены основные формы и методы репрессивной политики в отношении ученых. Рассмотрены важнейшие судебные дела против научных работников в Среднем Поволжье.
Короткий адрес: https://sciup.org/148198186
IDR: 148198186 | УДК: 94(47+57)
Текст научной статьи Репрессии в отношении ученых в Среднем Поволжье в 1930-е годы
Самарский государственный университет
Статья посвящена анализу политических репрессий против научной интеллигенции в Среднем Поволжье в 1930-е годы. Выявлены основные формы и методы репрессивной политики в отношении ученых. Рассмотрены важнейшие судебные дела против научных работников в Среднем Поволжье.
1930-е годы – сложный период в истории научной интеллигенции в СССР, когда власть стремилась подчинить себе научное сообщество. Недоверие к ученым постоянно подчеркивалось в выступлениях государственных и партийных деятелей и документах различного характера на протяжении всего периода [1, Л. 50 – 57.]. На практике же это приводило к массовым чисткам научных учреждений и увольнениям многих ученых в начале 1930-х годов в связи с социальным происхождением и их политической позицией [2, Л. 34.], а затем и к арестам значительной их части. Становилась нормой фабрикация различных "союзов научных работников", созданных для проведения контрреволюционной борьбы с советской властью.
Первым и самым крупным делом 1930-х годов на территории Среднего Поволжья, направленным в отношении научной интеллигенции, было дело Волжской контрреволюционной организации "Трудовая крестьянская партия" (ТКП), которое шло параллельно с делом А.В.Чаянова и Н.Д.Кондратьева в Москве. По обвинению в членстве в этой организации были арестованы в 1930 году десятки подозреваемых. По профессиональной принадлежности члены организации являлись в большинстве своем научными работниками в области сельского хозяйства. Из научных учреждений наиболее пострадали Безенчукская опытная станция и Самарский сельскохозяйственный институт, которые были крупнейшими научными центрами в области сельского хозяйства в Среднем Поволжье. На Безенчукской опытной станции привлекли по этому делу большинство ведущих научных работников, основная масса которых были "старыми беспартийными специалистами, начавшими трудовую деятельность еще до революции": С.М.Тулайков,
К.Ю.Чехович, Г.В.Иванов, Д.М.Щукин, М.И.Ожарко, Д.А.Бомбин, И.И.Ишаков, В.Н.Харчиков, С.А.Добровидов [3, Л. 270 – 278]. В сельскохозяйственном институте также пострадали многие преподаватели, в том числе профессора Г.А.Студенский, Г.И.Баскин.
Многие из участников данной организации принимали активное участие в политической жизни страны еще до революции. Так, известный экономист Г.И.Баскин и последний председатель Самарского общества археологии, истории, этнографии и естествознания В.П.Арапов, обвиненные по этому делу, являлись лидерами партии народных социалистов в регионе и депутатами Государственной Думы. Это были известные ученые, пользовавшиеся большим авторитетом в научной среде.
По материалам следствия, данная организация возникла в середине 1920-х годов и функционировала в Самаре, Оренбурге, Пензе, Безенчуке [5, Л. 46]. При этом, В.П.Арапов, арестованный как руководитель Самарского филиала "Трудовой крестьянской партии", подчеркивал, что "рассматривать нашу группу, как вполне оформленное объединение, и, тем более, как политическую партию с определенной, ясно сформулированной программой, с определенно очерченными задачами было бы совершенно не правильно. Она представляла собой конгломерат различных мнений и взглядов и объединяла вокруг себя лиц, диапазон политических взглядов которых чрезвычайно широк" [5, Л. 91.]. Это был "блок различных политических течений: народников, неонародников, социалистов-революционеров, меньшевиков" [5, Л.113]. Единственным исключением являлись "монархисты и церковники разных толков, как сила явно реакционная" [5, Л.92].
Однако, по мнению Г.И.Баскина, "всех членов организации связывало известное единство воззрений, сводившееся к необходимости изменения существующего политического режима на буржуазно-демократический. Возможность такого перерождения мыслилась в форме постепенного перерождения Советской власти путем углубления и расширения НЭПа" [4, Л. 329]. С.М.Тулайков говорил, что "сущность объединяющей аграрных научных работников платформы заключалась в том, что мы не воспринимали и отрицали диктатуру рабочего класса с его коммунистическими идеалами и социально-экономическую политику Советской власти, считая необходимым развитие капиталистических отношений, что, в конечном счете, привело бы страну к капиталистической реставрации и тем самым изменило пролетарский характер Советского государства" [3, Л.4].
Члены организации по иному смотрели на пути развития сельского хозяйства. Они считали, что его прогресс обеспечивается капиталистическим путем развития и что двигателем сельскохозяйственного прогресса является крепкое, высокотоварное крестьянское хозяйство, а потому отрицательно относились к социальной перестройке сельского хозяйства, не верили в возможность и осуществляе-мость взятых темпов социалистического переустройства, и саму возможность восстановления хозяйства этим путем [3, Л. 4].
Тяжело воспринимали арестованные ученые и политику власти в отношении интеллигенции. В.П.Арапов писал: "Политическое и общественное положение беспартийного спеца складывалось не лучше чем до революции; он оставался тем же бесправным служащим, полугражданином, взятым на подозрение, только вместо дворянско-поме-щичьей верхушки хозяином у него оказался пролетариат… Политические свободы, о которых грезила интеллигенция при полицейском режиме, которые она считала столь необходимыми, оказались и в условиях пролетариата только мечтой. Зато отношение к интеллигенции стало не лучше, а, пожалуй, даже хуже, чем раньше" [5, Л. 124].
Об этом говорил и другой арестованный по этому делу – К.Н.Шатов: "Разумная часть интеллигенции понимала, что на Советской службе не могло быть тех прерогатив и преимуществ, которыми интеллигенция пользовалась при старом режиме, но она считала справедливым, чтобы её положение на службе государства ограждалось хотя бы какими-нибудь правовыми нормами, чтобы её правовое положение было не хуже положения лиц физического труда. Между тем в этом направлении ничего не было. Интеллигенция, пошедшая на работу Советской власти, целиком попала в категорию "служащий", по отношению к которому власть начальства, в сущности, беспредельна. Против несправедливости, как бы очевидна она ни была, служащий никакой действительной защиты не находит. Интеллигент на советской службе если лично и не становится жертвой произвола, то всё-таки всегда должен был помнить, что такой жертвой он может стать в любую минуту, что он ежедневно и ежечасно может быть лишен куска хлеба. На такую же бесправность, на такую же возможность интеллигент натыкался и в частной жизни" [4, Л. 46.].
Следствие выявило два периода деятельности организации. По показаниям С.М.Тулайкова, тактика организации "до 1928 года заключалась в усилении развития мелкокапиталистических (кулацких) элементов деревни, возрастающая политическая сила которых могла бы заставить Советская власть пойти на уступки. Впоследствии, начиная с 1928 года твердо взятый и проводимый партией и Советской властью курс на ликвидацию остатков капиталистических отношений в деревне ясно показал, что достижение нашей цели выполнимо лишь путем вооруженного свержения Советской власти" [3, Л. 6 об.]
Следствие по делу Волжской контрреволюционной организации "Трудовая крестьянская партия" продолжалось около года. В результате десятки человек были оправлены в тюрьму, высланы в другие регионы или уволено из научных учреждений. Многие из тех ученых, что были арестованы по этому делу, погибли от болезней в лагерях. В частности, в 1933 году погиб С.М.Тулайков, который на протяжении 15 лет являлся директором Безен-чукской опытной станции – одного из наиболее крупных и старых научных учреждений в области сельского хозяйства не только в Поволжье, но и в СССР. От ареста его не спасли ни научные заслуги, ни заступничество брата, который был вице-президентом Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук (ВАСХНИЛ) и главным соратником Н.И.Ва- вилова. Часть из осужденных вышли на свободу в середине 1930-х годов, но их арестовали в 1937 году по новому делу. В результате расстреляли Г.И.Баскина, В.П.Арапова [6].
Однако материалы следствия не дают полной картины событий. Нельзя понять степень организованности данной организации, так как единственным источником являются материалы следствия, в ходе которого менялись показания арестованных ученых. К концу следствия большинство подозреваемых признало попытку свержения советской власти военным путем, для чего создали "особую комиссию, которой было присвоено название военной", но каких-либо четких показаний по этому поводу ни один из них не смог дать. Причем, подозреваемые подчеркивали, что "деятельность военной комиссии, как и всей контрреволюционной организации никакого практического эффекта не дала и ни в каком реальном действии не выразилась" [4, Л. 334 об.]. Они постоянно подчеркивали отсутствие у них практических действий по свержению власти, ограничиваясь несогласием с проводимой политикой в области теории. Арестованные, признавая негативное своё отношение к проводимой политике власти, не считали себя виновными в какой-либо вредительской деятельности. Г.И.Баскин подчеркивал, что "поставленный мне вопрос о том, в каком преступлении я считаю себя виновным, представляется мне чрезвычайно странным и по форме и по существу. Я не знаю за собой никакого сознательного проступка, который можно было бы рассматривать как преступление. Во всех своих действиях я не знаю ни одного, которое было бы направлено во вред Советской власти, препятствовало бы осуществлению социализма немеченым ей и партией ВКП(б) путем. Не могу же я считать преступлением, что я будучи далек от специально-политических проблем, не сразу целиком воспринял принятое ВКП(б) направление, а сделал это после ряда колебаний" [5, Л.20]. Другой обвиняемый Г.А.Студенский подчеркивал, что считал свои научные взгляды "лежащими в области легальности", оставаясь при этом на "советской платформе", так как они публично высказывались в печати и докладах и были поддержаны среди многих представителей таких государственных учреждений, как Госплан, Наркомзем и другие [5, Л.20].
Наряду с учеными-аграрниками серьезно пострадали краеведы Среднего Поволжья. Так, 1-й секретарь Средневолжского крайкома ВКП (б) М.М.Хатаевич в докладе на объединенном пленуме обкома и областной контрольной комиссии ВКП(б) еще в декабре 1928 года обращал внимание на "работу общества археологов и музея в г. Самаре, музея краеведения в г. Пензе, где собралась контрреволюционная антисоветская гниль, которая использует эти организации, будто бы советские, для того, чтобы группировать свои силы, чтобы вести свою работу определенно направленную против нас" [7]. В итоге в ходе проверки рабоче-крестьянской инспекцией были уволены как "идеологически чуждые современным требованиям в области научных знаний и общественной жизни" многие видные краеведы [8. Л. 88]. Кроме того значительная часть краеведов также была привлечена по делу Волжской контрреволюционной организации "Трудовая крестьянская партия".
Другой крупный процесс, в ходе которого пострадали десятки преподавателей и студентов, был так называемый процесс фашистской контрреволюционной "Народнокоммунистической партии". В основном, жертвы этого процесса – работники индустриального института и комвуза [9. Л. 10 – 15].
В 1938 году в Среднем Поволжье начался новый крупный процесс, жертвами которого стали руководители обкома и облисполкома, а также многие ученые, в основном преподаватели социально-политических наук. Примечательно, что жертвами этого дела стали не представители старой научной интеллигенции, негативно относившиеся к Советской власти, а ученые-коммунисты. Более всего пострадали представители планового института: заместитель директора по учебной и научной работе В.А.Фаддеев, заведующий кафедрой политической экономии А.А.Пуреховский, доцент кафедры экономики и техники сельского хозяйства Т.И.Алымов, заведующий кафедрой математики А.А.Ермеков; уволили многих видных ученых [10].
Всем этим процессам придавалось широкое общественное звучание. Они обсуждались в печати. Жертвы осуждались на различного рода собраниях и митингах, которые происходили в общегородском масштабе либо в тех научных учреждениях, работники кото- рых привлекались по судебному процессу. На них выступали научные работники с осуждением своих коллег, подвергалась критике их предшествующая работа. Но некоторые ученые, в особенности представители старшего поколения, отказывались, что зачастую расценивалось как поддержка арестованных и могло служить поводом для ареста.
Представители научной интеллигенции пострадали не только в ходе массовых кампаний, но и в результате единичных арестов. Чаще всего, поводом для репрессий служили обвинения не в реально совершенных преступлениях, а критическое отношение к действительности, высказывания о недостатках политики партии и критика вождей партии. Причем, еще в конце 1920-х годов власть в принципе позволяла умеренную критику. Так, известный биолог А.А.Любищев, работавший в Самаре в конце 1920-х годов, отмечал, что в этот период позволялось вести споры на различные политические темы довольно свободно; издавались и различные работы, в которых подвергались сомнениям определенные положения марксизма [11, Л.11 – 12]. А уже в 1930е годы совершенно безобидная критика, зачастую направленная не против власти, а на решение конкретных проблем, причислялась к контрреволюционной деятельности. Поводом для репрессий служили также социальное происхождение, служба в белой армии, связь с осужденными коллегами, родство с иностранными гражданами. Зачастую во многих вузах и научно-исследовательских институтах разворачивалась борьба с "вредительством" после ареста их руководителей. После этого от нового руководства и парторганизации требовалось найти подтверждение их "преступной" деятельности, разоблачить пособников и заняться искоренением последствий. По такой схеме развертывались события в сельскохозяйственном, плановом институте. Прежнее руководство обвинялось в засоренности института политически ненадежными людьми, отсутствии актуальных тем, отрыве от производства, развале материальной базы [1, Л. 7].
Репрессии выражались не только в крайне жестоких формах (расстрел, тюрьма, ссылка). Широкое распространение получили другие формы наказания. Кроме арестов часто применялись увольнения ученых с работы без права заниматься научной деятельностью, что для многих из них являлось личной трагедией. Кроме того, от работы могли быть отстранены и члены семей. Многие после череды арестов в научном учреждении вынуждены были сами увольняться, чтобы избежать репрессий за связь с "врагами народа". Так, на Безенчукской опытной станции после ареста целого ряда руководящих работников и ученых только за пять месяцев с сентября 1937 года по март 1938 года из-за "чрезвычайно напряженной атмосферы" уволились по "личному желанию" 8 человек [12, С.235.].
Среди использовавшихся мер наказания особенно распространенными были такие, как исключение из партии, что для некоторых групп советской интеллигенции с прочными коммунистическими убеждениями превращалось в личную трагедию. Так, академик П.Н.Константинов сильно переживал в связи с исключением его из группы сочуствующих. Он отмечал в письме в обком ВКП(б) "несправедливость этого решения" и подчеркивал, что его "поражают и огорчают совершенно неожиданные обвинения" [1, Л. 27 – 34]. Обличительные статьи в прессе и критика со стороны партийной организации также крайне тяжело воспринимались учеными.
Но в основе своей репрессии в отношении ученых не имели под собой хоть каких-либо оснований, являясь во многих случаях результатом необоснованных доносов коллег по работе. Даже отчеты НКВД характеризовали "политическое настроение в научной среде как устойчивое, так как массовых эксцессов и организованных выступлений не зафиксировано. Отмечались лишь случаи отдельных антисоветских выпадов, выраженных в форме резкой антисоветской критики, антисоветских разговоров" [13, Л.108].
Аресты, ссылки, увольнения являлись важными не только в силу прямого репрессивного воздействия, но и потому, что вынуждали многих ученых проявлять внешнюю лояльность власти, скрывая свои взгляды и сокращая круг лиц, с которыми можно было разделить свою критику проводимой политики или откровенно обменяться взглядами.
На протяжении 1930-х годов менялся характер репрессий. Если в начале 1930-х годов репрессии направлялись в отношении представителей "буржуазной" научной интеллигенции, к которой власть относилась крайне настороженно и недоверчиво, то в конце 1930-х годов они приняли массовый характер. Жертвами репрессивной политики стали широкие слои научных работников, в том числе и многочисленные представители "новой" интеллигенции, которые были лояльны власти. Причем, в ходе репрессий пострадали как высший руководящий состав научных учреждений и известные ученые, так и молодые научные работники, только начавшие научную деятельность.
Превращение науки в арену идеологической борьбы, направленной против плодотворно работавших ученых, привело к массовой замене профессионально грамотных научных кадров научно-исследовательских институтах и высших учебных заведениях менее квалифицированными работниками, многие из которых не имели представлений об исследовательской работе. Особо тяжело это отразилось в Среднем Поволжье, где и без того наблюдался большой дефицит в высококвалифицированных научных работниках. Такой же процесс наблюдался в партийных и государственных органах, ведавших наукой. Всё это привело к серьёзным негативным последствиям для советской науки, значительно снизив темпы её развития.
Список литературы Репрессии в отношении ученых в Среднем Поволжье в 1930-е годы
- Самарский областной государственный архив социально-политической истории (СОГАСПИ). Ф. 656. Оп 29. Д. 114.
- СОГАСПИ. Ф. 1141. Оп. 7. Д. 10.
- Архив ФСБ по Самарской области. Д. П -88.44. Т. 1.
- Архив ФСБ по Самарской области. Д. П -88.44. Т. 2.
- Архив ФСБ по Самарской области. Д. П -88.44. Т. 3.
- Архив ФСБ по Самарской области. Д. П -67.15.
- Трудовая правда. -№285. -1928.
- Государственный архив Пензенской области (ГАПО). Ф. Р -315. Оп. 1. Д. 3. Л.88.
- СОГАСПИ. Ф. 1315. Оп. 1. Д. 13.
- Архив ФСБ по Самарской области. Д.П-65.85, Д.П -65.88.
- Любищев А.А. Переезд в Самару//Ульяновский краеведческий музей. Личный фонд А.А.Лю-бищева.
- Бомбин Д.А. Краткий обзор научно-произ-водственной деятельности Безенчукской сельскохозяйственной опытной станции за 1903 -1945 годы. -Безенчук: 1978.
- Государственный архив новейшей истории Ульяновской области (ГАНИУО). Ф.13. Оп. 1. Д. 1189.