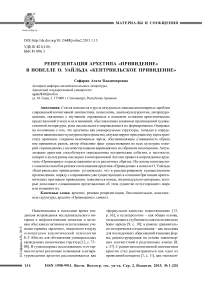Репрезентация архетипа «Привидение» в новелле О. Уайльда «Кентрвильское привидение»
Автор: Сафарян Агата Владимировна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Материалы и сообщения
Статья в выпуске: 1 (25), 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья находится в русле актуальных междисциплинарных проблем современной когнитивной лингвистики, психологии, лингвокультурологии, литературоведения, связанных с изучением отраженных в языковом сознании архетипических представлений этноса и их изменений, обусловленных влиянием произведений художественной литературы, роли писательского мировидения в их формировании. Опираясь на положение о том, что архетипы как универсальные структуры, попадая в определенное национально-культурное пространство, актуализируют присущие ему (пространству) признаки, сохраняя неизменные черты, обеспечивающие узнаваемость образа вне временных рамок, автор объясняет факт существования во всех культурах поверий о привидениях с наличествующими вариациями в их образном воплощении. Актуализации архетипа способствуют определенные исторические события, в частности, возврат к культурному наследию в викторианской Англии привел к возрождению архетипа «Привидение» и представлению его в различных образах. На основе комплексного анализа способов речевого воплощения архетипа «Привидение» в новелле О. Уайльда «Кентрвильское привидение» установлено, что в рассматриваемом художественном произведении, наряду с сохранением уже существующих в сознании британцев архетипических признаков привидения, появляются новые, индивидуально-авторские, которые дополняют сложившиеся представления об этом существе потустороннего мира или изменяют их.
Архетип, речевая репрезентация, бессознательное, константные структуры, архетип "привидение", символ
Короткий адрес: https://sciup.org/14969830
IDR: 14969830 | УДК: 81:821(410) | DOI: 10.15688/jvolsu2.2015.1.15
Текст научной статьи Репрезентация архетипа «Привидение» в новелле О. Уайльда «Кентрвильское привидение»
DOI:
Наметившаяся в последнее время тенденция возрождения исследовательского интереса к мифологическим сюжетам и мотивам обусловила активное использование учеными термина «архетип», введенного в науку основателем аналитической психологии К.Г. Юнгом для обозначения универсальных врожденных психические структур [12, с. 75– 80]. В гуманитарных исследованиях этот термин получил различные толкования: в литературоведении архетип рассматривается как
«формульное единство повествования» [13, p. 36]; в культурологии – как общая основа, отсылающая к глубинным слоям психики всех homo sapiens [9, с. 10]; в рамках сравнительно-исторического языкознания – как исходная для последующих образований языковая форма, реконструируемая на основе закономерных соответствий в родственных языках [8, с. 47]. С развитием когнитивной лингвистики архетип стал рассматриваться как одно из проявлений концепта [1, с. 11], как «метакон- цепт» культуры [3]; возник термин «архетипический концепт», под которым подразумеваются архетипические ментальные образования особого класса, обладающие способностью внедряться в сознание участников общения и отключать критическое восприятие и убеждения [5, с. 43].
Будучи универсальным средством передачи опыта предков, архетип тем не менее имеет национальные границы. Воплотившись в поверьях, традициях, представлениях, архетип, в дополнение к базисной составляющей, актуализирует черты, присущие лишь данной культуре, что делает воплощенный им образ уникальным.
По мнению К.Г. Юнга, пробуждение архетипов обусловлено определенными фактами исторической эпохи, воздействием на область коллективного бессознательного, с их последующей реализацией в языковом пространстве, в частности в тексте художественного произведения. Архетип не меняет своего значения и функций, он всегда узнаваем, и в любой новой форме прочитывается его древнее содержание [12, с. 149].
Обратимся в этой связи к широко распространенному в мировой культуре архетипу «Привидение». Вера в привидения восходит к временам язычества в Древней Греции и Древнем Риме, где поклонение духам умерших являлось неотъемлемой частью культа мертвых. Существовало поверье о том, что, если после смерти тело не похоронено, озлобленный дух, обреченный на вечные скитания, будет пугать смертных, насылать болезни, уничтожать урожай [11, с. 16]. Архетип «Привидение», будучи универсальным, имеет диверсифицированное воплощение в разных культурах: у славян – мары, приносящие смерть, мор; у монголов – альбины, в образе блуждающего огня сбивающие путников с дороги; у финнов – хийси, духи, предвещающие смерть, губители скота; у армян – хор-тылакнер, духи умерших иноверцев, самоубийц, появляющиеся в образе собак, кошек, волков и пугающие прохожих и т. д. [10, с. 261, 635, 688, 1055].
Многочисленные легенды о привидениях существуют и у британцев (легенда о Banshee – «кричащих призраках», предвещающих смерть [6, с. 76], о Benni – «маленькой прачке у ручья», которая стирает одежду человека, обреченного на смерть [6, с. 57] и т. д.); живы поверья о замках с множеством привидений (Виндзорский замок с привидением Генриха VIII, замок Хивер с призраком Анны Болейн и т. д.).
Особую актуальность поверья о привидениях и иных существах в Британии приобретают в период викторианства, так как в предшествующие эпохи под запрет попадало все, связанное с язычеством: обряды и верования в привидения становились достоянием невеж, главенство рационализма было неоспоримым. Однако тоска по далекому прошлому и рост национального самосознания в XIX в. в корне изменили ситуацию: то, что ранее было объектом презрения, стало достоянием нации, его гордостью [7, с. 5]. Такая историческая трансформация вернула к жизни давно забытые архетипы, позволила воплотить их в многочисленных образах, опосредованных индивидуально-авторским мировосприятием.
В данном аспекте актуальной становится задача определить, с помощью каких языковых средств и приемов репрезентирован архетип «Привидение» в национальной картине мира британцев, нашедшей выражение в произведениях художественной литературы. Материалом для исследования послужила новелла англо-ирландского писателя Оскара Уайльда «Кентрвильское привидение».
Действия новеллы происходят в замке, что соответствует представлениям британцев о местах обитания привидений. Однако О. Уайльд сразу указывает на сосуществование двух миров – реального и потустороннего, упоминая «четвертое измерение» ( the Fourth Dimension of Space ), которое связывает материальный мир и мир духов: adopting the Fourth Dimension of Space as a means of escape, he vanished (p. 11) 1. Для наименования главного персонажа – духа сэра Саймона – использованы синонимичные единицы, прямо называющие приведение ( old man of terrible aspect, spectre, phantom, spook, phantasmic apparitions, astral bodies, guilty spirit ) или косвенно указывающие на него ( an evil shadow, a green hand, a green icy-cold corpse ); таким образом, формируется уникальный именной ареал архетипа (о термине см.: [3]).
Каждому появлению привидения сопутствуют определенные погодные изменения: ясный солнечный день становится вдруг серым, пасмурным, дождливым; автор усиливает напряжение с помощью эпитетов terrible flash of lightning, a fearful peal of thunder, a violent storm of rain и аллитерации (повторение звука [s]):
As they entered the avenue of Canterville Chase, however, the s ky became s uddenly overca s t with clouds, s eemed to hold the atmo s phere, a great flight of rook s pa ss ed s ilently over their heads, and, before they reached the house, s ome big drop s of rain had fallen (p. 6).
Символически нагружена цветовая гамма пятна, вокруг которого разворачивается основное действие новеллы. Меняя свой цвет от красного до насыщенного фиолетового ( dull ( almost Indian ) red , vermilion , rich purple ), пятно отражает эмоциональное состояние привидения: ярость, агрессию, ненависть, чувства тяжкой обиды и унижения – целого ряда эмоционально-негативных переживаний. Одержав победу нам своими страхами, привидение окрашивает пятно в изумрудно-зеленый цвет ( emerald-green ), являя свою демоническую сущность и знаменуя готовность к борьбе с новыми жильцами. Наряду с тем, что зеленый цвет во многих культурах, в том числе и британской, ассоциируется с весной, юностью, цветением, он также имеет негативную коннотацию, ассоциируясь с колдовством, коварством, искушением [2].
Смыслом существования непрощенной души было скитание по замку, устрашение обитателей по ночам скрипами, звонами, шумом и лязгом цепей, что выражено соответствующими эпитетами: curious noise, strange noise, mysterious noises, hollow groans, fearful crash, peal of demoniac laughter.
Однако читатель сопереживает привидению, страдающему из-за «неуважительного» отношения хозяев замка. Душевные муки привидения автор выражает с помощью метафор и эмотивной лексики: he broke down, a prey to the most violent agitation, extreme depression, a little humiliated, in a terrible state of dirt, disorder and despair.
В соответствии с архетипическими представлениями о привидении как непро- щенной душе центральной темой новеллы становится тема прощения, покаяния и преодоления вечного мрака, реализованная в образе Вирджинии, которая помогла несчастному духу обрести покой, что выражено как эксплицитно (to be at peace), так и имплицитно (no yesterday, no tomorrow, to forget time, to forget life, to listen to silence). Имплицитно выражена идея покоя в шестистрочном пророчестве, оставленном на окне в библиотеке, аллитерация звука [l] создает ощущение спокойствия, безмятежности:
When a go l den gir l can win Prayer from out the l ips of sin, When the barren a l mond bears, And a l itt l e chi l d gives away its tears, Then sha ll a ll the house be sti ll
And peace come to Cantervi ll e (p. 30).
Поняв горечь лет, проведенных привидением в скитаниях по замку, вопреки своим страхам Вирджиния отправляется с ним в «черную пропасть» ( black cavern – эвфемизм, под которым автор подразумевает преисподнюю) и, вымолив прощение грешной душе сэра Саймона, дарит ей вечный покой в Саду смерти.
Несмотря на шутливый тон новеллы, в ней таится глубокий смысл – конфликт рационального и иррационального и их взаимосвязь с такими понятиями, как любовь и прощение. Данный конфликт выражен посредством парадоксов: название новеллы «Кентрвильское привидение», ассоциируемое с неким безжалостным, злым призраком; страх и гнев привидения на фоне спокойствия хозяев и т. д., все это контрастирует с общепринятыми представлениями о данных существах. Звуковые приемы, использованные автором, будучи средством эмоционально-смысловой выразительности, задают акустический фон, необходимый для адекватной интерпретации действия новеллы; тропы отражают авторскую систему соотношения объектов. Посредством такой репрезентации данного архетипа автор парадоксально реализует идею сосуществования миров, дополняя существующие представления о привидении.
Подводя итоги, отметим, что архетип «Привидение» в новелле О. Уайльда репре- зентирован иерархически, в тесной взаимосвязи низших, сенсорных (звуки, цвет и т. д.), и высших, смысловых (метафоризация, символизация), уровней восприятия данного архетипа (о классификации уровней восприятия архетипа см.: [4, с. 18]). Раскрытие архетипа в произведении происходит, с одной стороны, при актуализации речевыми средствами присущих ему признаков (злобный дух, обитатель замка, представитель потустороннего мира, запугивание обитателей, проклятие), с другой же стороны, при создании дополнительных признаков (погодные изменения как предвестник появления привидения, эмоциональная подавленность привидения, прощение, покой), что расширяет границы архетипа и обогащает его. Вопреки имеющимся представлениям о привидении как о мучителе, в новелле оно предстает как объект мучений и издевательств. Данный факт свидетельствует о том, что в сознании автора преломлены стандартные границы восприятия архетипа и, сохранив базовые характеристики, писатель создает качественно новый образ и иное воплощение данного архетипа.
Список литературы Репрезентация архетипа «Привидение» в новелле О. Уайльда «Кентрвильское привидение»
- Абышева, Е. М. Концептуальные инверсии: концепт «чудо» (на материале русских и ирландских пословиц, поговорок и сказок): автореф. дис. … канд. филол. наук/Абышева Евгения Михайловна. -Тюмень, 2008. -20 с.
- Агапова, С. Г. Семантические особенности цветообозначений с компонентом «green» в английской лингвокультуре/С. Г. Агапова, Л. В. Гущина//Известия Южного федерального университета. Филологические науки. -2014. -№ 3. -С. 54-63. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.philol-journal.sfedu.ru/index.php/sfuphilol/article/view/300. -Загл. с экрана.
- Большакова, А. Ю. Теория архетипа и концептология/А. Ю. Большакова//Культурологический журнал. -2012. -№ 1 (7). -С. 1-11. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.cr-journal.ru/rus/journals/109.html&j_id=9. -Загл. с экрана.
- Зимняя, И. А. К вопросу о восприятии речи: автореф. дис. … канд. пед. наук/Зимняя Ирина Алексеевна. -М, 1961. -22 с.
- Карасик, В. И. Архетипические концепты в общении/В. И. Карасик//Прямая и непрямая коммуникация. -Саратов: Колледж, 2003. -С. 39-52. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.sgu.ru/structure/philological/linghist/sbornikzhanry-rechi/materialy-vypuskov/pryamaya-inepryamaya-kommunikaciya. -Загл. с экрана.
- Королев, К. Энциклопедия сверхъестественных существ/K. Королев. -М.: Локид, 2000. -720 с.
- Коути, Е. Суеверия викторианской Англии/Е. Коути, Н. Харса. -М.: Центрполиграф, 2012. -480 с.
- Нерознак, В. П. Архетип/В. П. Нерознак//Лингвистический энциклопедический словарь. -М.: Большая Рос. энцикл., 2000. -С. 47.
- Савельева, У. А. Архетипический лингвокультурный концепт «предательство»: дис. … канд. филол. наук/Савельева Ульяна Александровна. -Астрахань, 2008. -211 с.
- Токарев, С. А. Мифы народов мира/С. А. Токарев. -М.: Сов. Энцикл., 1980. -1147 с.
- Фюстель де Куланж, Н. Д. Древний город: религия, законы, институты Греции и Рима/Н. Д. Фюстель де Куланж. -М.: Центрполиграф, 2010. -414 с.
- Юнг, К. Г. Очерки по психологии бессознательного/К. Г. Юнг. -М.: Когито-Центр, 2010. -352 с.
- White, J. J. Mythology in the Modern Novel/J. J. White. -Princeton: Princeton UP, 1971. -410 p.