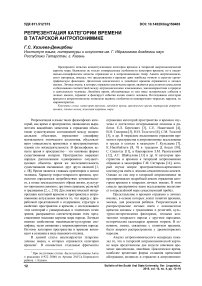Репрезентация категории времени в татарской антропонимике
Автор: Хазиева-Демирбаш Гузалия Сайфулловна
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Лингвистика @vestnik-susu-linguistics
Рубрика: Лексическая семантика
Статья в выпуске: 4 т.12, 2015 года.
Бесплатный доступ
Предпринята попытка концептуализации категории времени в татарской антропонимической картине мира. Выявлены не только универсальные особенности категории времени, но и национально-специфические аспекты отражения ее в антропонимиконе татар. Анализ антропонимического материала, показал, что представления о времени дают наиболее точную и строгую хронографическую фиксацию. Дихотомия циклического и линейного времени отражаются в личных именах. Личные имена, в которых отражено циклическое время, являются результатом осмысления и обоснования соответствий между астрономическими изменениями, закономерностями в природе и деятельности человека. Линейное время, обозначающее те или иные исторические события в личных именах, отражает и фиксирует события жизни самого человека. Исследование категории времени в антропонимоконе позволило выявить особенности имянаречения тюркских народов, их мировосприятие.
Категория времени, линейное время, циклическое время, татарская антропонимика, личные имена, языковая картина мира
Короткий адрес: https://sciup.org/147153975
IDR: 147153975 | УДК: 811.512''373 | DOI: 10.14529/ling150403
Текст научной статьи Репрезентация категории времени в татарской антропонимике
Репрезентация в языке таких философских категорий, как время и пространство, являющихся выразителем важнейших моментов в отражении объективно существующих соотношений между материальными объектами, определяют специфику ментальности этнического коллектива, обусловливают уникальность временных и пространственных планов его жизнедеятельности. В философском аспекте время и пространство – это основные формы существования материи. Пространство выражает порядок расположения одновременно сосуществующих объектов, время же последовательность существования сменяющих друг друга явлений [1, с. 58]. Время является главным ориентиром в жизни человека. Характер тюрко-татарского времени, хронологии определялся потребностями кочевнического, а позже земледельческого образа жизни, культурно-торговыми связями с другими странами, религией и традициями [2, с. 210]. Для лингвистической интерпретации категорий времени и пространства в антропонимике актуальным является то, что наряду с проработкой представлений о содержании, структуре и свойствах пространства и времени, с исследованием этих категорий с универсальных и этнических точек зрения, раскрывается соответствующая этим представлениям языковая картина мира народа. Личным именам свойственна национально-культурная специфика, тесно связанная с мировосприятием народа. Поэтому категории пространства и времени возникают в сознании в виде языкового отклика.
В данной статье анализируются татарские личные имена, в которых отражается категория времени1. В ономастике отдельные фрагменты отражения категорий пространства и времени изучены и достаточно исчерпывающе описаны в работах Е.Л. Березович [3], С.Е. Никитиной [4], В.Н. Топорова [5], Н.И. Толстого [6], С.М. Толстой [5], и др. В тюркском языкознании отражения времени и пространства в антропонимике исследованы в трудах и статьях в казахском Г. Кульдеева [7], К. Ниетбайтеги [8, 9] в турецком Д. Аксан [10], С. Сакаоглу [11], в башкирском З.М. Раемгужиной [12], А.Г. Шайхулова [13] и др. К категории пространства и времени в татарской антропонимике обращено в монографии Г.Ф. Саттарова [14], который изучал вопрос пространственно-временного континуума имён в лексико-семантическом аспекте. Однако до сих пор в татарской антропонимике не предпринимался подробный анализ отражения категории времени в татарских личных именах. В этом смысле предпринятое нами исследование восполняет в определённой мере существующий пробел.
Представление о времени отражено в личных именах, в основе которых лежат понятия времени, месяца, дня рождения ребёнка. Репрезентация и распространение личных имён с компонентом времени связаны с традициями и религией, культурно-историческими факторами, тесными контактами татарского народа с другими народами, историческим календарем древних тюрков. В основном, имена, связанные с понятием времени, были широко распространены у древнетюркских народов.
Анализ антропонимического материала показал то, что в татарской антропонимической картине мира представлены две модели описания времени: циклическая, линейная. Циклическое время, наиболее архаичная форма сознания временной абстракции, возникло и отражено в антропоними- ке татар на основе наблюдений повторяемости природных циклов, смены дня и ночи. Линейная модель отличается определенным направлением, связанной с историко-культурной жизнью татарского народа.
Циклическое время отражает космологические представления татарского народа. Начиная с VII в. в Тюркских каганатах был распространён двенадцатилетний звериный цикл, который основывался на китайский календарный цикл [2, с. 169]. О двенадцатилетнем животном цикле тюркских племен упоминается и в словаре М. Кашгари «Диване лугат ит-тюрк» [15, с. 73–72]. Как известно, в зверином цикле календаря года обозначаются названиями животных: тычкан – мышь, сыер – ‘корова’, барыс – ‘барс’, куян – ‘заяц’, улу – ‘дракон’, елан – ‘змея’, ат – ‘лошадь’, куй – ‘овца’, маймыл – ‘обезьяна’, тавык – ‘курица’, эт – ‘собака’, дунгыз – ‘свинья’. Таким образом, звериный цикл в то же время выполнял и народное летосчисление тюрков. В основе некоторых татарских личных имён лежат названия двенадцатилетнего звериного цикла: Тычкан – «мышь», Барс – «барс», Куян – «заяц», Елан – «змея», Елкы – «лошадь», Кучкар, Сарык – «овца», Эт – «собака» и др. Ребенка нарекали именем года, в котором он родился. Названия года обезьяны в личных именах не встречается. С проникновением ислама в Волжскую Булгарию булгары начинают подсчитывать время по новому мусульманскому календарю ‒ хиджра, который является главным атрибутом времени в исламской культуре. По хиджре выделяются следующие названия месяцев: Мухаррам, Сафар, Раби-уль-авваль, Раби-уль-ахир, Джумад-уль-авваль, Джумад-уль-ахир, Раджаб, Шаабан, Рамадан, Шавваль, Зуль-Каада, Зуль-Хиджжа. Названия месяцев являются компонентами личных имён и широко используются в татарском антропонимиконе: Мөхәррәм, Сәфәр, Рәҗәп, Шәгъбан, Зөлкыйдә, Зөлхиҗә и др.
Науруз ‒ праздник нового года по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов. У татар Среднего Поволжья науруз назывался «новым днём». В татарской антропонимике от компонента «нәүрүз» образованы следующие личные имена: Нәүрүз (п.), Нәүрүзбай (п.-т.), Нәүрүзбәк (п.-т.), Нәүрүзгали (п.-а.), Нәүрүзхан (п.-т.); жен. Нәүрүз (п.). Имена с компонентом «нәүрүз» зафиксированы и распространены у других тюркских народов. Ребёнка, рождённого в первый день весны, у турков называли Нәүрүз. Рождение ребенка в этот месяц считался хорошей приметой. В турецкой антропонимике зафиксированы личные имена Нәүрүзбәхт, Нәүрүзкол [21, с. 55]. Также личное имя Нәүрүз зафиксировано у башкир [13, с. 20], у казахов [8, с. 231], у кыргызов [17, с. 23].
Личные имена, образованные от названия месяца курбан: Корбанбакый (а.), Корбанкилде (а.-т.), Корбангази (а.), Корбанвәли (а.), Корбанкол-
Корбангол (а.-т); жен. Корбанбикә ( а.-т.), Корбангүзәл (а.-т.), Корбансылу (а.-т) и др. используются и у других тюркских народов: у башкир [13, с. 15], у казахов [8, с. 77], у кыргыз [17, с. 33].
Личные имена с компонентом гает, образованного от названия торжественного богослужения у мусульман, проводимого в ознаменование праздников Ураза-байрам (праздник поста) и Курбан-байрам (праздник жертвоприношения), давались мальчикам, родившимся в этот день: Га-ет (а.), Гаетбай (а.-т.), Гаетхан (а.-т.), Гаетхуҗа (а.-п.), Гаетҗан (а.-п.). Данные имена сохранилось в фамилиях Гаетов, Гаитов, Аетов, Аитов . Диалектальные варианты имени Гает являются личные имена Ает, Аит .
Личные имена от названия «мәүлид» (в переводе с арабского ‘рождение, время рождения, место рождения’), праздника посвященного рождению пророка Мухаммада: Мәүлид, Мәүлидҗан, Мәүлидгәрәй, Мәүлиддин, Мәүлидбай; жен. Мәүлидә и др. нарекали младенцев, рождённых в этот месяц.
После принятия ислама начали использоваться названия недель персидского происхождения (дүшәмбе, сишәмбе, чәршәмбе, пәнҗешәмбе, шимбә, якшәмбе), и арабского происхождения «жомга». До принятия ислама у булгаро-татар употреблялись местные названия дней недели. Детей, рождённых в понедельник нарекали именами: Дүшәмбе, Дүшәмбебай; во вторник: Сишәмбе, Сишәмбебай, Сишәмбегөл; в среду: Чәршәмбе, Чәршәмбебай, Чәршәмбегөл и др. В современном именнике данные личные имена не зафиксированы. Татары воскресенье называли «базар көне». Базар в переводе с персидского означает «праздничный день». В этот день в мусульмане встречались с друзьями, родственниками. Детей, рождённых в этот день, нарекали личными именами Базар, Базарбай, Базарбәк и др. Самыми популярными именами были имена с компонентом җомга˂җома˂йома – ‘пятница’: Җомагол˂Йомагол, Җомабикә˂Йомабикә; Җома-гөл˂Йомабикә и др. Личные имена с компонентом «жомга» давались детям, рожденным в пятницу. У мусульман пятница считается праздничным молитвенным днём. Пятница является благословенным днём для татар. В татарской антропонимии зафиксированы имена с компонентом «жомга»: Жомагол (а.-т.), Жомагали (а.), Жомгабай (а.-т.) и др. В антропонимиконе татар распространены и личные имена, образованные от диалектального варианта «йома»: Йомабай (а. -т.), Йомагали (а.), Йомагол (а.-т.), Йомахужа (а.-п.) и др. Компонент җомга ˂җума˂йома зафиксирован и в других тюркских языках. Так Г. Кульдеева, выделяя в казахском языке частотность и вариативность имён с данным компонентом, отмечает и использование этих имён по сей день, хотя имена с основами, обозначающими другие дни недели, практически исчезли из именника [7, с. 102]. В казахской ан- тропонимике распространён огузский вариант компонента «жомга»<жума. В казахской антропонимической системе зафиксированы личные имена с компонентом «жума»: Жумабәк, Жумабай, Жу-ма, Байжуман, Жумагали [8, с. 221]. Турецкий антропонимист А. Эрол отмечает значительное распространение в турецком антропонимиконе личных имён с компонентом «жума», которые присваивались детям, рожденным в пятницу [16, с. 42]. В диалектах татарского языка слово «жомга» заменяется словосочетанием «атна көн» [18, с. 63], при помощи которого тоже образованы мужские личные имена. Фонетически изменённое атна˂азна используется в личных именах Азнагол, Азнабай, Азнакай. У древних татар было распространено давать имя с компонентом «атна», считая этот день святым. Категория циклического времени омечается и в кыргызской антропонимике. Как отмечает Ш. Жапаров, употребление личных имён, связанных с названиями дней недели широко распространено в кыргызской антропонимике: Жек-шембек – ‘ребенок, родившийся в воскресенье’, Душембек – ‘ребенок, родившийся в понедельник’, Шершенали – ‘ребенок, родившийся в среду’, Шейшембай – ‘ребенок, родившийся, во вторник’ и др. [17, с. 26].
В татарской антропонимии компонент «бәйрәм» (т.) добавлялся к именам детей, рождённым в праздничный день. При помощи данного компонента образованы следующие личные имена: Бәйрәмбай (т.), Бәйрәмгали (т.-а.), Бәйрәмхан (т.), Бәйрәмша (т.-п.), Бәйрәмгол (т.); жен. Б әйрәмбик ә (т.), Бәйрәмгөл (т.-п.) Детям, рождённым в месяце Рамазан, давались имена Бәйрәм.
В татарской антропонимике зафиксированы личные имена, связанные с русским календарём. В материалах ЗАГСа г. Казани начиная с 20-х гг. ХХ столетия детей, рожденных в мае, в октябре, именовали личными именами Октябрь, Май. В казахской антропонимике используются личные имена Шилдебай ( шилде – ‘июнь’), Мамрай ( ма-мыр – ‘май’), Акпапбет ( акпап – ‘ февраль’), Сеип-бай ( сеип – ‘апрель’) [7, с. 65]. В турецкой антпо-нимической системе зафиксированы личные имена Нисан (‘апрель’), Маес (‘май’), Эким (‘октябрь’) [16, с. 53].
В татарской антропонимике зафиксированы личные имена, от названий обозначающих промежуток времени суток: таң, көн, төн, кич, сәхәр, ахшам , которые указывают время рождения ребёнка. Компонентом сәхәр ‘раннее утро’ образованы следующие татарские личные имена: муж. Сәхәр (а.); жен: Сәхәрбанат (а.), Сәхәрбану (а.-п.), Сәхәрбикә (а.-т.), Сәхәрна з (а.-п.) и др.
Младенцу, рождённому на рассвете, в утренней заре, давались личные имена с компонентом «таң»: Таңбулат, Таңатар, Танкилде; жен. Таңгөл, Таңсылу и др. В основном эти имена являются дескриптивными, которые имеют дополнительное значение ‘красивый, как утренняя заря’. Компо- нент «таң» активно используется и у других тюркских народов. Например, в турецком языке зафиксированы личные имена Танай (тан + ай), Тана-тылмыш (тан + атылмыш), Танайдын (тан + айдын – ‘светлый’), Тандоган (тан + доган – ‘рождённый’) [16, с. 43]. Также следует отметить использование личных имен с компонентом тан у башкир: Танга-тар, Танбулат, Танатар [13, 22], у казахов: Тан-биргэн [7, с. 215]. у кыргызов: Танатар, Аткантан [17, с. 77].
В советское время в татарском антропонимическом реестре появляются личные имена от апел-лятивов заман – ‘время’, гасыр – ‘эпоха’, вакыт – ‘время’: Заман, Гасыр, Вакыт. Данные имена в процессе онимизации приобрели дополнительное коннатативное значение «новое счастливое время». Данные имена появились в реестре имён после Октябрьской революции.
Линейное время отражено в именах, отражающих исторические события. В основном данные имена образованы в начале ХХ в. Влияние различных социально-политических событий наиболее ярко отражается в мужских ЛИ. Как утверждает Ш. Акалын, «в турецком языке отражение в личных именах исторических событий довольно частое явление» [19, с. 13]. В казахской антропонимике личные имена, образованные при помощи апеллятивов мылтык – ‘винтовка’, сугыш – ‘война’, фронт – ‘фронт’ даются младенцам как отражение политических событий в жизни страны [7, с. 81]. По материалам ЗАГСа г. Казани прослеживается распространение в период после октябрьской революции личных имён Рево, Октябрь, Рев-дар – ‘революционный дар’, Ревмир – ‘революция мировая’. Следует выделить имена арабского происхождения Иншәр «революционный восток», Ин-кыйлаб «революция» и др. Так татарские личные имена Илтөзәр, Илнар, Илшат, Илсур, Илданур, Илнур, Илдус, Илсаф, образованные при помощи компонента ил (страна) были широко распространены в послевоенные годы ХХ в. Личные имена, образованные от апелллятивных компонентов: Ирек – ‘свобода’, Азат – ‘свобода’ начали появляться в реестре имён в начале 90-х годов ХХ века.
Личные имена, отражающие прибытие гостей: Байкилде (т.), Хаҗикилде (а.-т.), Морзакилд е (а.-т.), в основном, образованы от отглагольного слова кил-де – ‘пришёл’. Данные личные имена в современном антропонимиконе не зафиксированы.
Таким образом, личные имена, связанные с временем, ярко отражают космогоничные взгляды и историко-культурную жизнь татарского народа. Циклическое время представлено апеллятивами, обозначающими народный календарь древних тюркских народов. На протяжении многовековой истории в татарском этнокультурном пространстве в результате смены историко-культурных формаций находили разное применение народного календаря. С принятием ислама в татарской культуре, личные имена, образованные от животного цикла сменились именами, образованными от названий мусульманского календаря. Линейное время отражает исторические события появления младенца на свет и тем самым фиксирует отдельные моменты жизни общества. В целом, личные имена с компонентом времени позволяют охарактеризовать особенности имянаречения, традиционную духовную жизнь татарского народа, его историю, модель мира.
Список литературы Репрезентация категории времени в татарской антропонимике
- Философский словарь/под ред. И.Т. Фролова. -М.: Республика, 2001. -719 с.
- Давлетшин, Г. Очерки по истории культуры татарского народа (истоки, становление и развитие)/Г. Давлетшин. -Казань: Татарское книжное изд-во, 2004. -431 с.
- Березович, Е.Л. Русская топонимия в этнолингвистическом аспекте: Пространство и человек/Е.Л. Березович; под ред. А.К. Матвеева. -М.: Книжный дом «Либроком», 2009. -328 с.
- Никитина, С.И. Устная народная культура и языковое сознание/С.И. Никитина. -М.: Наука, 1993. -189 с.
- Пространство и время в языке и культуре. -М.: Индрик, 2011. -368 с.
- Толстой, Н.И. Избранные труды. Славянская лексикология и семасиология/Н.И. Толстой. -М.: Языки русской культуры, 1997. -Т. 1. -520 с.
- Кульдеева, Г.И. Антропонимическая система современного казахского языка/Г.И. Кульдеева. -Казань: Изд-во «ДАС», 2001. -239 с.
- Ниетбайтеги, К. Концепт «время» в казахской антропонимии/К. Ниетбайтеги//Фәнни язмалар -2004. -Казан: РИЦ «Школа», 2005. -С. 195-202.
- Ниетбайтеги, К. Концепт «пространство» в казахской антропонимии/К. Ниетбайтеги//Фәнни язмалар -2004. -Казан: РИЦ «Школа», 2005. -С. 202-207.
- Aksan D. Her yönüyle dil. Ana çizgileriyle dilbilim/D. Aksan. -Ankara, Türk Dil Kurumu, 2000.
- Sakaoğlu, S. Türk ad bilimi/S. Sakaoğlu. -Ankara Türk dil kurumu, 2000. -150 s.
- Шайхулов, А.Г. Башкирские и татарские имена собственные/А.Г. Шайхулов, З.М. Раемгужина. -Уфа, 2006. -90 с.
- Шайхулов, А.Г. Татарские и башкирские личные имена тюркского происхождения/А.Г. Шайхулов. -Уфа, 1983. -72 с.
- Саттаров, Г.Ф. Татар антропонимикасы/Г.Ф. Саттаров. -Казан: Казан ун-ты нәшр., 1990. -276 с.
- ал-Кашгари, М. Диван лугат ат-турк (Свод тюркских слов): в. 3 т./М. ал-Кашгари; пер. с араб. А.Р. Рустамова; под. ред. И.В. Кормушина. -М.: Вост. лит., 2010. -Т. 1. -461 с.
- Erol, A. Adlarımız/A. Erol. -Istanbul: Turan Kültür Vakfi, 1999. -610 s.
- Жапаров, Ш. Кыргызская антропонимия/Ш. Жапаров. -Бишкек: Илим, 1992. -188 с.
- Татар теленең зур диалектологик сүзлеге. -Казан: Татарстан китап нәшр., 2009. -839 б.
- Akalın, Ş. Türk kişi adlarının kaynakları/Ş. Akalın//Tarih.-Istanbul. -1998. -№ 6. -S. 15.