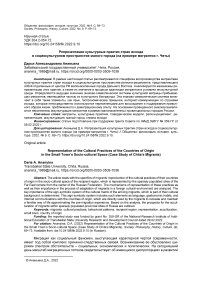Репрезентация культурных практик стран исхода в социокультурном пространстве малого города (на примере мигрантов г. Читы)
Автор: Ананьина Дарья Александровна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 9, 2022 года.
Бесплатный доступ
В рамках настоящей статьи рассматривается специфика воспроизводства мигрантами культурных практик стран исхода в социокультурном пространстве региона-реципиента, представляющего собой отдаленные от центра РФ малонаселенные города Дальнего Востока. Анализируются механизмы репрезентации этих практик, а также их значение в процессе адаптации мигрантов в условиях инокультурной среды. Определяется ведущее значение знаково-символической системы культурной матрицы прибывающих мигрантов, являющейся частью их культурного бэкграунда. Эта знаково-символическая система включает в себя такие элементы, как язык, гастрономические привычки, интернет-коммуникации со странами исхода, которые непосредственно используются переселенцами для воссоздания и поддержания привычного образа жизни, приближенного к домиграционному опыту. На основании проведенного анализа выявляются перспективы аккультурации мигрантов в рамках малонаселенных провинциальных городов России.
Мигранты, культурные практики, поведенческие модели, регион-реципиент, репрезентация, аккультурация, малый город, страна исхода
Короткий адрес: https://sciup.org/149141223
IDR: 149141223 | УДК: 304.2-054.72 | DOI: 10.24158/fik.2022.9.10
Текст научной статьи Репрезентация культурных практик стран исхода в социокультурном пространстве малого города (на примере мигрантов г. Читы)
Забайкальский государственный университет, Чита, Россия, ,
,
отдельных регионов и стран. Показатель активности передвижения людей может также выступать в роли индикатора социальной стабильности: если он низкий – это свидетельство удовлетворительного состояния социального самочувствия населения, которому нет необходимости прибегать к миграции как к единственно доступному средству улучшения своих жизненных условий. Н.А. Эльдяева и Е.С. Кованова обращают внимание на трудовую миграцию, отмечая, что она зачастую является стратегией выживания населения (Эльдяева, Кованова, 2017: 257).
Специфика миграционных процессов на Дальнем Востоке России состоит в смещении количественных и качественных параметров убывающего и прибывающего контингента, что выражается в оттоке коренного населения (как правило, наиболее образованной и трудоспособной ее части) и притоке низкоквалифицированной трудовой силы из центральноазиатских республик. Очевидные культурные различия принимающего сообщества и прибывающих мигрантов актуализируют необходимость осмысления и анализа процессов, сопровождающих интеграцию последних в социокультурную ткань реципиирующего региона.
Проблематика исследования предполагает обращение к символическому интеракционизму, использование которого в качестве ведущего методологического принципа позволяет, во-первых, раскрыть феномен репрезентации культурных практик стран исхода в привычной для мигрантов знаково-символической системе. Она включает в себя язык, культурные и религиозные символы и знаки, благодаря которым становится возможным реконструировать привычное жизненное пространство в инокультурной среде. А, во-вторых, на основе символических основ социального поведения мигрантов есть возможность рассмотреть малый город в качестве «лаборатории исследования социальных взаимодействий» (Мжельская, 2015).
Мигранты из центральноазиатских республик, присутствие которых стало для коренного населения Забайкалья привычным фактом повседневности, особым образом вписываются в социокультурное пространство города, воспроизводя культурные практики стран исхода. Эти практики репродуцируются, как правило, благодаря сложившимся экономическим нишам, в рамках которых мигранты не только реализуют трудовую деятельность, укрепляют земляческие контакты, но и поддерживают традиционный образ жизни, воспроизводят устоявшиеся модели поведения и т.д. Наличие так называемого «миграционного бэкграунда» (migration background) определяет относительно компактное расселение мигрантов в пространстве г. Читы, что также свидетельствует о стремлении их к максимальной консолидации друг с другом (Becker, 2019). Таким своеобразным «чайнатауном» в Чите является район Центрального рынка, где внушительное количество квартир продано или отдано в аренду семьям мигрантов.
Бэкграунд мигрантов из Центральной Азии включает в себя такой важнейший компонент, как коллективизм. И. Звягельская в этой связи отмечает, что «хотя широкие общинно-родственные отношения сжимаются, уступая место более индивидуальным семейным и дружественным отношениям, все же присущие традиционным обществам связи, коллективизм остаются важными элементами жизни, своего рода “страховочной сеткой” для мигрантов в трудных обстоятельствах» (Звягельская, 2018). Ориентация на коллективистские ценности центральноазиатских мигрантов выступает как скрепляющая сила, способствующая консолидации земляческих связей за рубежом, что позволяет создать некий «культурный буфер», смягчающий столкновение с чуждой средой. В такой роли выступают этнические диаспоры, которые становятся самой распространенной формой консолидации и взаимодействия с коренным населением. W. Safran выявил следующие определяющие их характеристики:
-
• рассредоточение по двум или более локациям;
-
• коллективная мифологизация родины;
-
• отчуждение от принимающей культуры;
-
• идеализация возвращения на Родину;
-
• постоянная связь с Родиной (Safran, 1991).
Перечисленные признаки вполне свойственны и этническим сообществам Забайкалья. Однако следует также отметить тот факт, что диаспора здесь в то же время является актором в официальном взаимодействии с принимающим сообществом в рамках различных культурных, социально значимых, спортивных мероприятий. Узбекская община, кыргызская, таджикская и др. диаспоры входят в состав Ассамблеи народов Забайкальского края, которая выступает площадкой межкультурного взаимодействия и самопрезентации этносов. Важность этих социальных контактов, реализуемых диаспорами, определяется тем, что они являются ключевым посредником во взаимодействии вновь прибывших мигрантов и принимающего сообщества.
Репродуцирование привычного образа жизни мигрантами осуществляется также за счет неограниченного доступа к разнообразным источникам информации на родном языке, что способствует сохранению культурных контактов с Родиной (Линченко, 2020). Информационные технологии создали беспрецедентные возможности для воспроизведения привычного «культурного пространства» сообществами мигрантов, которое визуально сравнимо с неким куполом, позволяющим сохранить свою «культурную атмосферу» в пространстве чужеродной среды. Физическая близость Родины в этом случае заменяется наличием некой идеальной формы, вполне успешно выполняющей функции транслятора привычных культурных моделей (Parycek et al., 2017: 421). А. Линченко по этому поводу отмечает, что фактически они свою Родину так и не покинули. Ибо Родина присутствует в их повседневной жизни, но не как «материальный», а как «идеальный» фактор (Линченко, 2020).
Информационные сети, по мнению G. Hugo, выполняют важные социальные, психологические, культурные, религиозные и экономические функции, которые редко учитываются при разработке политики в отношении миграции и мигрантов (Hugo, 2005). Искусственное воссоздание Родины в инокультурном пространстве связано также с формированием и активным тиражированием среди переселенцев мифологемы о реальном возвращении на Родину. Большинство мигрантов г. Читы конечную цель своего пребывания в России видят в накоплении достаточного количества средств для комфортной жизни на Родине. Однако зачастую претворение в жизнь этой мифологемы ограничивается ежегодными отпускными поездками, что в некотором роде замещает репатриацию и откладывает ее на неопределенный срок. M. Cakmak, автор исследования мифа возвращения на Родину среди тюркоязычной общины Лондона, отмечает, что многие мигранты сохраняют свои социальные, культурные, экономические и политические связи как с родной, так и с принимающей страной, вместо того чтобы разорвать свою привязанность к одной ради другой (Cakmak, 2021). Некоторые мигранты принимают активное участие в политике, экономике и религиозной жизни на родине, в то время как другие погружены в среду страны поселения. Существуют различные уровни трансграничного взаимодействия и мобильности между государством исхода и принимающей страной. Например, некоторые члены общины активно вовлечены в религиозный ландшафт (духовную жизнь) своей Родины. Другие регулярно путешествуют в страны исхода. Таким образом, они находятся «одной ногой в родной стране, а другой – в принимающей». Все участники исследования подчеркивали важность посещения мест исхода для лучшего понимания родной культуры и передачи ее молодому поколению (Cakmak, 2021).
Еще одной формой репрезентации культурных практик выступает сфера питания. Поддержание мигрантами гастрономических привычек в пространстве города отражается в открытии множества заведений общественного питания центральноазиатской кухни, лавок, торгующих халяльным мясом, фруктами, специями. Консолидирующая функция этнических кафе как центра притяжения мигрантов раскрыта в работе Центра исследований миграции и этничности РАНХиГС и Московской высшей школы социальных и экономических наук. Авторы исследования подчеркивают, что этнические кафе способствуют формированию сообществ мигрантов, которые в свою очередь обеспечивают обмен информацией среди представителей одного этноса, являют собой механизм социального контроля и канала доверия, они поддерживают и создают ценности, нормы и смыслы1. Феномен этнических кафе как средоточия культурных смыслов, транслируемых посещающими их мигрантами, объясняется как раз необходимостью воспроизводства понятных им систем культурных координат. Это становится механизмом психологической защиты, обеспечивающей чувство безопасности в ситуации столкновения с «иным».
Проведенный обзор позволяет сделать вывод о том, что миграция в информационную эпоху не идентична как по форме, так и по содержанию миграции в предыдущие исторические периоды. Достижения в области информационных технологий привели, по замечанию С. Пинкера, к «дематериализации мира», что позволяет достигать социокультурных целей, расходуя при этом минимум ресурсов (Пинкер, 2021).
Сегодня для того чтобы избежать или минимизировать последствия так называемого акку-льтурационного стресса, мигрантам требуется затратить меньшее количество энергии. Информационные технологии, равно как и тесные земляческие контакты за рубежом, принимающие форму диаспор, обеспечивают необходимую психологическую поддержку и способствуют комфортной интеграции в инокультурном пространстве. Репрезентируемые на новом месте мигрантами культурные практики становятся «гарантом сохранения» ими своей этнокультурной идентичности. В целом в нынешних условиях ставится под сомнение возможность полной ассимиляции принимающим сообществом мигрантов как таковой. В век свободного доступа к любой информации это уже скорее некий анахронизм, пережиток империалистической системы, не вписывающийся в социокультурный ландшафт современности. Интеграция, базирующаяся на принципах интеркультурализма, культурного плюрализма, космополитизма, становится наиболее привлекательной формой межкультурного взаимодействия.
1 Варшавер Е., Рочева А. Этнические кафе являются центром притяжения мигрантов // Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Научно-образовательный портал IQ. URL: (дата обращения: 26.08.2022).
Рассматривая возможности формирования новых подходов к инклюзии мигрантов в принимающее сообщество, И. Цапенко отмечает, что в противовес мультикультурализму, сфокусированному на взаимоотношениях между государством и культурными меньшинствами, интер-культурализм акцентирует коммуникации между индивидами и группами (Цапенко, 2018: 137). Интеркультурализм способствует созданию фундамента для налаживания межкультурного диалога, а не вменяет в обязанность его реализацию (Цапенко, 2017: 918). При этом основной площадкой для реализации идеи межкультурной интерактивности призваны стать города. В отличие от ориентации ассимиляционной и мультикультуралистской стратегий на национальный уровень, интеркультурализм сосредоточивается на локальном уровне (Цапенко, 2018: 137). Именно городское пространство, в рамках которого протекает жизнедеятельность мигрантов и представителей принимающего сообщества, имеет возможность стать зоной свободного взаимодействия индивидов – носителей множественных идентичностей и различных культур. Как представляется, отход от традиционных представлений о межкультурном взаимодействии как о процессе, «инициируемом сверху», в сторону его индивидуализации и приоритета частной инициативы является трендом современного глобализирующегося мира. Он распространил свое влияние повсеместно, обнаруживает себя в пространствах малых провинциальных городов России. Столица Забайкальского края г. Чита не является исключением. Культурный плюрализм, традиционно свойственный региону ввиду его трансграничного положения, создает дополнительный ресурс для межкультурного диалога, в том числе в рамках миграционного взаимодействия.
Список литературы Репрезентация культурных практик стран исхода в социокультурном пространстве малого города (на примере мигрантов г. Читы)
- Звягельская И.Д. Ближний Восток и Центральная Азия. Глобальные тренды в региональном исполнении. М., 2018. 224 с.
- Линченко А.А. Травмы культурной памяти в миграционном и постмиграционном обществе // Человек и культура. 2020. № 1. С. 1-16. https://doi.Org/10.25136/2409-8744.2020.1.31889
- Мжельская А.А. Символический интеракционизм. Роль символов в обществе // Общество, общности, человек: в поисках «вечного мира». Тамбов, 2015. URL: https://clck.ru/wYr5P (дата обращения: 26.08.2022).
- Пинкер С. Просвещение продолжается: в защиту разума, науки, гуманизма и прогресса. М., 2021. 626 с.
- Цапенко И.П. Интеркультурная парадигма интеграции мигрантов // Вестник Российской академии наук. 2017. Т. 87, № 10. С. 915-926. https://doi.org/10.7868/S0869587317100061
- Цапенко И.П. Поиски новых подходов к социокультурной интеграции мигрантов // Демографическое обозрение. 2018. Т. 5, № 4. С. 125-149.
- Эльдяева Н.А., Кованова Е.С. Причины и современные особенности внутренней трудовой миграции населения регионов России // Вестник Московского финансово-юридического университета МФЮА. 2017. № 2. С. 252-260.
- Becker C. The Influence of a Migration Background on Attitudes Towards Immigration // Social Inclusion. 2019. Vol. 7, iss. 4. Р. 279-292. https://doi.org/10.17645/si.v7i4.2317
- Cakmak M. «Take Me Back to My Homeland Dead or Alive!»: The Myth of Return Among London's Turkish-Speaking Community // Frontiers in Sociology. 2021. Vol. 6. Р. 1-11. https://doi.org/10.3389/fsoc.2021.630558.
- Hugo G. Migrants in Society: Diversity and Cohesion. Adelaide, 2005. 52 р.
- Parycek P., Fourer M., Virkar Sh., Pitoski D., Pereira G.V., Lampoltshammer T. Impact of Information and Communication Technologies and their Application to Challenges of Migration // Migration und Globalisierung in Zeiten des Umbruchs. Festschrift für Gudrun Biffl. Krems, 2017. P. 417-434.
- Safran W. Diaspora in Modern Societies: Myths of Homeland and Return // Diaspora : A Journal of Transnational Studies. 1991. Vol. 1, iss. 1. Р. 83-99. https://doi.org/10.1353/dsp.1991.0004