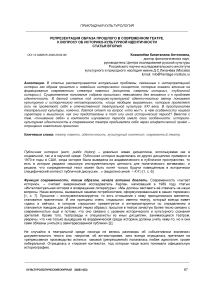Репрезентация образа прошлого в современном театре. К вопросу об историко-культурной идентичности Статья вторая
Автор: Кокшенёва К.А.
Журнал: Культурологический журнал @cr-journal
Рубрика: Прикладная культурология
Статья в выпуске: 1 (63), 2026 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются актуальные проблемы, связанные с интерпретацией истории как образа прошлого и новейших исторических концептов, которые оказали влияние на формирование современного «театра памяти» (концепты «жертвы истории», «публичной истории»). Существенное понимание «образа прошлого» невозможно без внимания и к проблеме идентичности. В данной статье под историко-культурной идентичностью автор понимает культурную и историческую неповторимость, «лица необщее выраженье», которые проявляют (или не проявляют) себя в отечественной театральной культуре XXI века. В пространстве театральной культуры, конечно, даётся ответ на вопрос «кто мы?», в чём особенности нашего характера и мышления, как они представлены в тот или иной исторический период? Вместе с тем, «понимание себя» в контексте изучаемого периода имело свои особенности: историко-культурная идентичность в современном театре предъявляла себя через апофатический приём – отрицания советского прошлого.
Театр памяти, идентичность, культурный контекст, современный театр
Короткий адрес: https://sciup.org/170211587
IDR: 170211587 | DOI: 10.34685/HI.2026.29.62.001
Текст научной статьи Репрезентация образа прошлого в современном театре. К вопросу об историко-культурной идентичности Статья вторая
Не случайно в театральной среде никогда не велись разговоры об «объективном значении» документального текста или, напротив, об антиисторизме, зато всегда отрицалась претензия на «репрессивное производство истины», каковой (репрессивной) полагалась любая идеология, кроме либеральной. Отрицалась и «тирания контекста», под которым чаще всего понимали официальную историографию.
Прикладное проявление публичной истории в театре, считают её последователи, как диалог о прошлом «в современной России нередко сталкивается с серьезными препятствиями. Важную роль в создании этих препятствий играют силы, стремящиеся выстраивать единую “историческую политику”» [2]. И это тоже существенно: всякая «централизация знания», всякая гуманитарно-ценностная вертикаль, всякое концептуально-смысловое единство вызывают настороженность у театральных практиков и исследователей.
Концепция public history развивалась в России с начала 2010-х годов [3]. В неё входили такие направления? как семейная память о Великой Отечественной войне, тема репрессий и сталинских лагерей; травмы XX века, локальные (краеведческие) истории, устные свидетельства как документальные и исторические [термин Zeitzeuge , появившийся в Германии во второй половине XX века, переводят как «свидетель (своего) времени»; в нашей театральной культуре Е. Гремина, руководитель московского Театра.doc претендовала на авторство термина «свидетельский театр», что, собственно, является производным от Zeitzeuge ]. Активное внимание части практиков к «публичной истории» связано и с появлением общественно-государственного интереса к истории: «Всего за несколько лет прокатилась целая волна событий, существенных для российской “исторической политики”: попытка внедрения “единого учебника истории”, введение в Уголовном кодексе статьи 354.1 “Реабилитация нацизма”, небывалые по своим масштабам празднования 70-летия Победы, появление новых памятников историческим деятелям в символически значимых местах столицы (патриарха Гермогена в Александровском саду, князя Владимира на Боровицкой площади), проведение в московском Манеже серии исторических выставок, вызвавших ажиотажный спрос («Романовы», «Рюриковичи», «XX век. 1914–1945 г. От великих потрясений к Великой Победе») и другие. Все это сопровождалось активизацией обсуждения исторических сюжетов в масс-медиа» [2]. Историческая выборка и акценты, расставленные в перечислении ( небывалые празднования ) позволяют видеть отнюдь не позитивную реакцию на «процесс инструментализации истории государством» и так же на «возвращение ученого (эксперта-историка) в публичный контекст» [2].
В ответ на государственные инициативы возникает Вольное историческое общество и Комитет гражданских инициатив (2017), который начинает дискуссии «Битвы памяти» (при поддержке Сахаровского центра [4] и Фонда Е. Гайдара). В 2016 году в Институте всеобщей истории РАН прошла конференция «История, память, идентичность: теоретические основания и исследовательские практики», в том числе речь шла о публичном представлении прошлого [5]. В том же году в музее современного искусства PERMM состоялся семинар «История искусства как Publiс History» (в центре – вопросы «публичного бытования истории искусства»). В 2017 году в Москве состоялась конференция «Рынок исторического (со)знания», «посвященная взаимодействию высказывания о прошлом и его аудитории» (организаторы – ныне закрытый Международный Мемориал и Лаборатория публичной истории) [5]. Помимо семинаров и лекций, была проведена конференция «Прошлое – чужая страна? Публичная история в России», на которой делался акцент на «внеакадемических практиках работы с историей», а также было привлечено внимание к тем направлениям, что выходили бы за рамки непосредственно исторической науки (локальные практики памяти, социология и прошлое, репрезентация прошлого в медиа, чем активно пользуется современный театр; а также неакадемические техники анализа прошлого) [6].
Задача создания продукта на историческую тему или продукта прошлого – конечно, тоже требовала определенного времени и исследования. И все же, у публичной истории, как её представляли адепты западной школы, исследовательский интерес был, как уже мы говорили выше, особенным. «Топография террора», «58-я. Неизъятое» (оба проекта посвящались источникам о репрессиях 1937-1938), «память о Холокосте» в музеях; в театре заметным событием критики считали проект Группы юбилейного года, молодые участники которого ставили целью показать «ненаписанную историю» Театра на Таганке. Помимо нескольких выставок и спектаклей, поставленных на основе свидетельской базы, в проект входил спектакль «1968. Новый мир», поставленный Д. Волкостреловым, смонтированный из разных публицистических и художественных текстов, что печатались в журнале в 1968 году и принадлежали официальной культуре, а также «из опубликованных в самиздате судебных протоколов по делу о демонстрации на Красной площади, из фрагментов отправившегося на полку фильма «Любить» Михаила Калика и Инны Туманян, из текстов песен Beatles и Rolling Stones – они обозначали мировой контекст, насильственно отделённый от советской действительности. Спектакль исследовал время, закат недолгой оттепели, в первую очередь фокусируясь на художественном языке, языке печати» [7].
Театр отличает, конечно, и то, что он обладает огромным потенциалом для подключения чувственного опыта , аффективных элементов , которые «приближают прошлое» через актёрскую игру, сценографию, медиа, – делают прошлое буквально очевидным. Однако всё, что связано с «телесностью» театра, может работать и в другом направлении: создавать «ироническую дистанцию» к тому, что является государственно-политическим публичным дискурсом.
В 2018 году третья конференция Лаборатории публичной истории [8] была посвящена театру – как его обычным практикам, так и performance studies. Открытие конференции предваряла читка пьесы «Страда двадцать первого» (автор – Е. Бондаренко), представленную как часть проекта «После бунта». Сама пьеса раскрывала тему крестьянских восстаний в Сибири 1920-х годов на основании воспоминаний участников и свидетелей тех событий. Семён Серзин представил иммерсивный спектакль «Свидетели», созданный по материалам и письмам репрессированных за религиозные убеждения в Татарстане в 1937-1938 годах. Был сделан доклад «Роль театроведения в формировании культуры памяти: чем нам может быть полезен польский опыт» (польский театр активно представляла в России премия-фестиваль «Золотая маска, например, в 2011 году).
Прошлое прежде всего воспринималось как травматическое наследие, то есть постпамять участников конференции была нацелена на « ужасающее прошлое ». И сама память полагалась «механизмом передачи травматического знания и материализованного опыта» [9]. Эстетика постпамяти в рамках западноевропейской мысли – это эстетика ужаса. И художник в рамках такой эстетики чаще всего ориентируется на то, что «имеет глобальное значение», устраняющее «политические и культурные различия» [9]. Автор статьи сравнивает работы художников Хорста Хохайзеля, (который работал в Германии, Аргентине и Камбодже) и Даниэля Либескинда, работающего в Нью-Йорке, Стокгольме, Берлине. В результате «стена из фотографий в Музее памяти и прав человека в столице Чили Сантьяго напоминает похожие стены в мемориальных музеях Парижа и Нью-Йорка» [9].
Эстетика памяти-ужаса не нуждается в постановке вопроса о культурно-исторической идентичности. Напротив, такая постпамять размещена вне национальных границ – она глобальна.
Отказ от академических, научных, искусствоведческих методологий в современной художественной среде позволял быстро (а ритм смены информации и темп смены актуальной повестки – существенная часть современной культуры) обозначать, называть, указывать на новые процессы. «Ускорение истории» как умножения событий сегодня очевидно. В частности, на упоминаемой уже конференции «Прошлое – чужая страна? Публичная история России» работала секция «”Перформансы насилия”: предельный опыт в театре» [10]. Анализ пьес «новой драмы», произведённый Боймерсом и Липовецким, позволил участнику конференции утверждать: «Оказалось, что многие пьесы “новой драмы” ритуально манифестируют превращение насильственной коммуникации в норму для постсоветского общества. Критика «новой драмы» как течения, которое воспроизводит, а не анализирует этот коммуникативный модус, позволила обозначить и центральную проблему секции: нужно ли передавать предельный исторический опыт аффективно – или следует, наоборот, дистанцироваться от него?» (выделено мной. – К.К.) [11]. «Насильственная коммуникация» как «прошлое», требующее рефлексии памяти, современный театр повторяет и в драме, и на сцене. Насилие становится тем существенным «ключом» «новой драмы», которым, с точки зрения создателей «быстрой драматургии» (как я бы её назвала), можно открыть советское прошлое и глобальное настоящее. Насилие – едва ли не самое часто повторяемое слово в исследованиях о драматургии и «новой драме». «Обсценная лексика, грубость, жестокость, туалетные темы, секс и насилие, низовая культура, жизнь тела, сокрушение идеалов прошлого, некрореализм, бесперспективность жизни, алкоголизм, мировой опыт дегуманизации в культуре, который очень пригодился в осмыслении советизма, – описывает содержание «новой драмы» её адепт. – Сны о великом прошлом, снящиеся догнивающим остаткам империи, никак не отражаются на здешней реальности, где царит жуткое непотребство: ругань, грубость, садизм, насилие, экскременты, пролежни, кровь, вонь. <…> Бытовой терроризм, домашнее насилие, сексуальное насилие – добровольное или нет – проявляют себя разнообразно. <…> Человек замкнут в тисках своей потребности стать свидетелем насилия, насиловать самому или становится жертвой насилия – мания к насилию словно заменила собой идеологию прошлого времени. <…> Страшные и правдивые картины насилия и жестокости, мучительного выживания в малых городах постсоветской России, утерявшей смысл жизни, множатся в не менее кошмарных сновидениях героев, чье сознание не может повзрослеть, обрести покой, состояться. <…> XX век с его кровавыми событиями показал нам, что у любого героизма есть обратная – и весьма неприглядная – сторона. Героизм после себя всегда оставляет жертвы, а жертвы насилия, в свою очередь, продолжают цепочку зла, пытаясь компенсировать свое мученичество в новом акте насилия» [12]. Автор, описывающий «новую драму», полагает наиболее существенным вывод, сделанный Марком Липовецким: «Феномен насилия в обществе: мир, готовый стать жертвой; потребность в виктимности, «стокгольмский синдром». Драматурги обнаружили неотделимость этого кризиса (идентичности в постсоветском обществе. – К.К.) от насилия – и, главное, построили особую художественную механику, способную воплотить эту иррациональную связь. <…> Насилие возникает как общедоступное лекарство от психологического паралича» [цит. по: 13]. Те слои общества, которые не поддерживали данный взгляд на себя, свою жизнь и свою идентичность, «быструю драматургию» попросту не интересовали. Их не видели и их не учили видеть ни в рамках драматургических лабораторий «новой драмы», ни на конференциях публичной истории.
«Перформансы прошлого», как и любая театральная форма, могут быть направлены на самые разные исторические эпохи [14]. Однако парадигма публичной истории, «придуманная не нами», требовала определенных исторических координат: рефлексий и аффектированных «жестов» в адрес советского «тоталитаризма». Если это театрализованная экскурсия («Маршрут памяти» в Екатеринбурге), то места памяти – это места сталинских репрессий. Документы официальные, воспоминания потомков репрессированных в виде аудиозаписей сопровождают «маршрут». Если это иммерсивный спектакль «Дело № 39496», то он сначала вовлекает публику в репрезентацию процедуры «прибытие в лагерь», дальше рассказывается о «преступлении» и в конце концов публику подводят к необходимости принять решение: кто из зрителей готов сыграть роль обвиняемого, а кто – следователя.
Тема «репрессий» в театральных спектаклях и перформативных практиках – самая устойчивая. Да, материал накапливался, но, строго говоря, говорить о «развитии темы» невозможно. Постпамять ничего не развивает. Постпамять – не точна, она скорее ассоциативна. Она, собственно, есть воспоминание о том, что поколением, её воспроизводящем, не пережито, когда прошлое – это чужая боль .
Но репрезентация прошлого как насилия – от частно-семейного до насилия государственного, понимаемого как «навязывание» общей памяти – позволяет нам сделать вывод, что ядро культурноисторической идентичности начала XXI века для театрального художника составляло именно насилие, якобы присущее русскому человеку и его истории (сравнение с историями других народов попросту отсутствовало).
В 2018 году был осуществлен проект «Полдень» в «Гоголь-центре» театральной лаборатории «InLiberty». В этот год «вся Европа» отметила 50-летие майских событий 1968 года, – «…рабочих забастовок и студенческих протестов, чей дух свободы и коллективного отстаивания своих прав и сейчас для европейцев считается определяющим. В нашей же истории 1968 год памятен противоположным по смыслу событием — вводом советских войск в Чехословакию, поставившим точку не только в Пражской весне, но и в утопических надеждах на “социализм с человеческим лицом”» [15]. Проект ставил целью напомнить о тех событиях истории России, которые могли бы соответствовать маркерам «борьбы за гражданские и экономические свободы, сопротивления тоталитаризму и диктатуре» [15]. «Военная агрессия государства» – это тот контекст, на фоне которого будут представлены несколько режиссерских эскизов, в частности, театральной реконструкцией того события, когда вскоре после операции «Дунай» в Москве на Красную площадь выходят восемь человек с лозунгом «За вашу и нашу свободу» (лозунг, как известно, возник в Польше в 1831 году во время противоправительственной, антиимперской, антицарской польской демонстрации; позже использовался на митингах в поддержку Украины). Мысль о том, что свободы у наших современников не больше, чем была в советское время, подкреплялась постами ленты в интернете как реакцией на «ужас» процесса режиссера Серебренникова (дело «Седьмой студии»).
Публичная история развивает гражданское самосознание. Но развивает ли публичная история историческое самосознание? Опираясь на театральный опыт, можно говорить, что отношение к истории, к историческому событию, к личной истории того или иного человека можно изменить. Именно на изменение отношения к советскому историческому опыту как опыту скомпрометированному и негативному опирались театральные деятели, пользуясь западными методологиями репрезентации прошлого. Не претендуя на высокую степень рефлексии по поводу сложности исторического самосознания, глубоко не проникая во внутреннюю историю, субъектом которой является сам народ, практики-последователи публичной истории и постпамяти, безусловно, добились того, что память о прошлом в современном театре была, во-первых, альтернативой хорошей советской памяти, а во-вторых, включала в себя и политическую стратегию, в которую входила память сопротивления (память оппозиционная) «террору государства», которому противостояла память свободная (например, «память об оттепели»). Вместе с тем, в эстетике постпамяти доминировали «образы потери и скорби, воплощающие идею отсутствия, тишины, неизвестности и пустоты. Основными источниками произведений служили архивные материалы, которые ещё больше подчёркивали призрачность и недостаточность передаваемых знаний» [9].
Исчезновение общности памяти – та реальность, в которой мы оказались в трагическое время распада страны. А образ прошлого как образ Большой истории России – остается до сих пор самым проблемным местом в практике и теории современного театра. Именно поэтому, говорить об историкокультурной идентичности в спектаклях современного театра довольно сложно. Но только большое историческое сознание народа может стать альтернативой постпамяти, при условии, что народ осознает себя народом. Прикладное и инструментальное отношение к прошлому (истории) требует преодоления, то есть творческого акта как акта духовного, содержащего в себе одновременно обновление (отжившего) и сохранение (лучшего). Стоит постоянно «держать в уме» и продуманную во второй половине XIX века отечественными философами чрезвычайно важную для русской культуры мысль о взаимодействии «прошлого» и «будущего». «Будущее лежит не впереди как думается, а напротив – позади» [16, с. 347]. «Поэтому, – проходить, в своем действительном смысле, означает только приходить к себе самому», – продолжает философ [16, с. 345].
В нашей культуре именно прошлое активно – оно требует к себе постоянного и напряженного внимания. И дело не в простых и схематичных «параллелях с прошлым», а исключительно в том, что там уже проявлены со всей отчетливостью эталоны творчества и мышления. Но это нужно увидеть и понять. Но классическим эталонам трудно соответствовать, как и мыслить в их парадигме. И такая «работа с прошлым» у нас впереди. «Мы должны беречь историю преимущественно как память о том, что было выше нас» [17, 10], – эта уверенность философа Н.Н. Страхова в высоте прошлого сегодня звучит парадоксально, дерзко и пока она довольно избыточна, поскольку «демократический идеал» как инструмент разочарований в своей истории преодолевается довольно медленно.