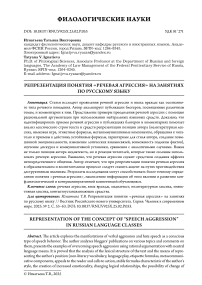Репрезентация понятия «речевая агрессия» на занятиях по русскому языку
Бесплатный доступ
Статья исследует проявления речевой агрессии и языка вражды как осознанного типа речевого поведения. Автор анализирует публикации блогеров, посвященные различным темам, и комментарии к ним. Представлены примеры преодоления речевой агрессии с помощью рациональной аргументации при использовании нейтральных языковых средств. Доказано, что идентифицировать приемы речевой агрессии в публикациях блогеров и комментариях помогает анализ лексического строя текста и средств репрезентации позиции автора (нелитературная лексика, языковая игра, этикетные формулы, метакоммуникативные компоненты, обращения к читателю и призывы к действию, устойчивые формулы, характерные для стиля автора, создание повышенной эмоциональности, изменение логических взаимосвязей, возможность подмены фактов), изучение дискурса и коммуникативной установки, сравнения с аналогичными случаями. Важна не только позиция автора медиатекста, но и реакция читателей, которые также склонны использовать речевую агрессию. Выявлено, что речевая агрессия служит средством создания эффекта непосредственного общения. Автор отмечает, что при репрезентации понятия речевая агрессия в образовательном и воспитательном процессе следует ставить акцент на путях противодействия деструктивным явлениям. Результаты исследования могут способствовать более точному определению понятия «речевая агрессия», накоплению информации об этом явлении и развитию конфликтологической и контрманипулятивной компетенций обучающихся.
Речевая агрессия, язык вражды, медиатекст, нелитературная лексика, инвективная лексика, контактоустанавливающие средства
Короткий адрес: https://sciup.org/148331068
IDR: 148331068 | УДК: 81′ 271 | DOI: 10.18137/RNU.V925X.25.02.P.053
Текст научной статьи Репрезентация понятия «речевая агрессия» на занятиях по русскому языку
На наших глазах меняются функции СМИ, возрастает значение воздействующей функции по сравнению с информационной. Журналист, блогер и их аудитория взаимодействуют условно, и это заставляет автора медиатекста прибегать к различным приемам выразительности речи и интенсификации общения: использовать экспрессивные средства и речевые штампы, создавать острые сюжеты, развивать эмоциональный накал, представлять факты в неожиданном свете. Стремление соответствовать вкусам аудитории порождает в СМИ тенденции к интеллектуализации и демократизации. Тенденция к интеллектуализации связана с популяризацией терминов, введением в речь новых слов (в том числе иностранных) и понятий, формированием нового значения у слов широко используемых. Демократизация связана со снижением уровня редактирования текстов, вульгаризацией и распространением инвективной лексики. Исследователи заявляют о широком распространении различных форм речевой агрессии в медиасреде; этой теме посвящены публикации в журналах и монографические исследования [1–9]. Дальнейший рост агрессивности речевой среды в различных сферах может привести к искажению представления о нормах речевого поведения, особенно среди людей, которые находятся в начале пути личного и профессионального становления.
Актуальность исследования определяется необходимостью противостоять деструктивному воздействию речевой агрессии. А.П. Сковородников отмечает, что в современных условиях возрастает значение конфликтологической и контрманипулятивной компетенций, предусматривающих «знание типичных барьеров общения и конфликтогенных ситуаций, умение преодолевать коммуникативные барьеры и достойно выходить из конфликтных ситуаций», а также «знание приемов речевой манипуляции для обеспечения личной и коллективной информационной безопасности» [10, с. 54]. Стоит отметить, что первичные навыки распознания и преодоления речевой агрессии, развития конфликтологической и антиманипулятивной компетенций дают дисциплины «Русский язык и культура речи» и «Русский язык в деловой коммуникации». Важно информирование о приемах речевой агрессии с позиции адресанта и адресата.
Целью исследования является поиск признаков речевой агрессии в массово-коммуникативном тексте для формирования
Репрезентация понятия «речевая агрессия» на занятиях по русскому языку конфликтологической и антиманипулятив-ной компетенции языковой личности [10, с. 54] или контрманипулятивного восприятия [11].
Для изучения средств воздействия медиатекста и выражения авторской позиции в нем методом сплошной выборки на Яндекс Дзен определен ряд блогов, имеющих предположительно бесконфликтную тематику (Дзен предлагает подборки материалов по различным темам: экономика и финансовая грамотность, криптовалюта, путешествия по миру, светская хроника). Для статьи выбраны тексты умеренного содержания, уместные для использования в учебной аудитории, показывающие манипулятивный характер медиатекстов и приемы речевой агрессии.
Представляя феномен речевой агрессии на занятиях по русскому языку, следует отметить, что с помощью средств речевой агрессии распространяется конфликтная коммуникативная установка, приносящая вред человеку и обществу, а также установка на изменение стиля межличностного общения. От автора медиатекста требуется осознание силы воздействия используемых языковых средств.
Причинами речевой агрессии становятся эмоциональное состояние, социальные факторы, культурные и семейные ценности, низкая самооценка, неумение управлять эмоциями. Формами проявления речевой агрессии являются ссора, умышленное унижение чести и достоинства человека (оскорбление), обещание причинить вред (угроза), требование и отказ, выраженные в грубой форме, враждебное замечание и насмешка над кем-либо, стеб и употребление инвективной лексики.
Традиционно «речевая агрессия – форма речевого поведения, нацеленного на оскорбление или преднамеренное причинение вреда человеку, группе людей, организации или обществу в целом» [12, с. 562]. Экология языка, юрислингвистика и психолингвистика используют термины «языковая (речевая, вербальная, словесная) агрессия», «языковое насилие», «языковое манипулирование» и «языковая демагогия», «язык вражды». Разнообразие терминов создает иллюзию незначительности различения языка и речи. На наш взгляд, наиболее удачным является термин «речевая агрессия», дающий возможность рассматривать ряд языковых средств в деятельностном аспекте.
Наблюдается взаимосвязь понятий «речевая агрессия» и «язык вражды». Термин «язык вражды» понимают в узком смысле как форму конфликта, в основе которого исторический стереотип о более низком статусе той или иной группы (А.К. Зайцев, Е.Н. Василенко, Общеполитическая рекомендация № 15 «О борьбе с языком ненависти»1). В качестве проявления языка вражды понимают выдвижение обвинений, оскорблений, распространение слухов и сплетен в отношении людей, которые объединены между собой по признаку пола, расы, языка, этнического происхождения, религии и тому подобного.
Ю.В. Щербинина, Н.И. Миронова рассматривают язык вражды в широком смысле как средства речевой агрессии. По мнению Ю.В. Щербининой, «в наиболее общем понимании язык вражды – это слова и выражения, которые подсознательно или явно программируют людей на агрессию, являются ее пусковым механизмом»[4, с.172].
56 Вестник Российского нового университета
56 Серия «Человек в современном мире», выпуск 2 за 2025 год
Язык вражды представляют агрессивные стратегии и тактики сетевой коммуникации (холивар, троллинг, флуд, флейм), способами их реализации могут быть: сочетание подчеркнутой вежливости с насмешкой; маскировка под новичка или, наоборот, эксперта; преднамеренное неверное написание «никнеймов» [13, с. 11]. Ю.В. Щербинина отмечает, что язык вражды переходит с уровня бытового общения на уровень массовой коммуникации [4]. Основываясь на распространении инвективной лексики в СМИ, исследователи подчеркивают, что речевая агрессия характерна для современного этапа развития русского литературного языка [14; 15].
Представить язык вражды на занятиях можно через знакомство с различными классификациями. Распространение получили несколько классификаций языка вражды: классификации А.М. Верховского, классификации М.В. Кроза и Н.А. Ратиновой, классификации Европейского университета [16]. Они строятся преимущественно на анализе прецедентных феноменов (создание негативного образа этнической группы, призывы к насилию, приписывание враждебных действий или намерений, деление на МЫ- и ОНИ-группы).
Проявление языка вражды может быть проиллюстрировано рядом примеров:
-
1. «Эта девочка сама виновата, что ее изнасиловали! Все знают, что она легкого поведения». (Провозглашение насилия допустимым средством, обвинение жертвы в причине насилия над ней.)
-
2. «Мы им предоставили прибежище в своей стране, помогли в беде, а они ответили нам насилием, они предатели и не братья нам!» (Негативный образ этнической или религиозной группы, переданный соответствующим тоном текста или его фрагмента.)
-
3. «Эти необразованные, дикие кочевники читать не умеют, привыкли только грабить и убивать!» (Утверждения о неполноценности, недостатке культуры, интеллектуальных способностей, неспособности к созидательному труду той или иной этнической или религиозной группы как таковой [17].)
Выявление языка вражды и речевой агрессии является серьезной проблемой, решение которой определяет состав преступления или меру морального ущерба. Представлять примеры речевой агрессии на занятиях порой невозможно, так как их содержание передает грубое нарушение моральных норм. Здесь стоит обратить особое внимание на способы борьбы с речевой агрессией. Вслед за Ю.В. Щербининой [3] можно выделить повышение уровня речевой культуры (использование цитат, афоризмов, народной мудрости, эвфемизмов). Также автор выделяет частные психолого-педагогические приемы контроля над речевой агрессией: игнорирование; переключение внимания (попытка изменить враждебный настрой собеседника); упоминание положительных качеств оппонента; тактическое сомнение («метод подзадоривания»); открытое словесное порицание; юмор и шутка; убеждение и внушение (тема 8 в [3]).
Осознанная речевая агрессия связана со значимой общественной проблемой (оскорбление личности или группы людей, межнациональная рознь и др.). Однако исследователи говорят, что речевая агрессия и использование языка вражды порой могут быть результатом журналистской небрежности, использования некорректного заголовка или анонса, неудачного использования стилевого контраста [18, с. 96]. В массовой коммуникации речевая агрессия приобретает оттенок манипулирования, реализующегося в рекламирова-
Порой речевую агрессию и манипулирование трудно распознать. И.Л. Петрова [20] считает, что в качестве непосредственного выражения языковой прагматики можно назвать инвективную лексику, то есть потенциально оскорбительные слова и выражения, употребляющиеся для унижения адресата речи или третьего лица. Обычно как инвективные употребляются нецензурные, жаргонные, диалектные, просторечные слова. В процессе коммуникации слова собственно литературного языка также могут быть применены в качестве оскорбительных, нарушающих нормы общественной морали. Выявление инвективной лексики – это одна из главных проблем юрислингвисти- ки. Как известно, оскорбление и клевета являются преступлениями, которые посягают на честь и достоинство человека [20, с. 98].
По мнению Б.Я. Шарифуллина, инвектива перерастает в речевой жанр, «наряду с информативными, императивными, оценочными и этикетными имеющий свою собственную коммуникативную цель и другие жанрообразующие признаки» [21, c. 124]. К инвективным жанрам речи автор относит оскорбление и его вторичные модификации в СМИ, угрозу, политический ярлык, жанры негативной рекламы («антирекламы»), в том числе и политической, брань и т. п. [21, с. 124 ‒ 125].
В дискурсе повествования о проблемах экономики и криптовалюте представлен текст «Как обналичить Биткоин в Москве: Лучшие Способы»1 (канал Exnode). Его цель – реклама услуг обменника биткоинов, внедрение установки, выгодной для автора текста. Текст является массово-коммуникативным, так как в нем содержится большое количество повторений, введенных для ускорения поиска, взаимодействие вербальных и графических компонентов, сочетаются средства устного и письменного языка. Текст ориентирован на некую аудиторию, он должен воздействовать на потребителя. Структура текста цикличная, в середине и в заключении повторяется мысль о том, что офлайн-обмен через криптообменники – лучший способ обналичить биткоины. Публикация начинается вопросно-ответным комплексом: « Хочешь обналичить биток в Москве и не потерять при этом нервы и деньги? Ты в правильном месте! » Содержит призывы к действию:
58 Вестник Российского нового университета
58 Серия «Человек в современном мире», выпуск 2 за 2025 год
« …держись ближе… И да, на Exnode ты найдешь все нормальные обменники, так что читай до конца! Выбирай, какой тебе по душе… Так что думай сам, стоит ли игра свеч ». Сокращает дистанцию между автором и читателем обращение во втором лице единственного числа. Манипулятивный характер текста подчеркивает использование большого количества сленговых и жаргонных слов, прослеживается тенденция к их сокращению: гемор (проблема), нервяк, биток, нал, наличка, сделать все по красоте, попасть на лохотрон, изучили все фишки, и вот тебе три самых годных способа, как вывести свои битки на нал, офис не твоя тема . Возникает вопрос: на какую именно аудиторию ориентирован этот текст?
Подчеркнутой логичностью отличается текст «О чем не говорят любители «битков» (биткоина)»1, помещенный на канале «Робототехника». Вводная часть передает осознанную позицию автора: « Скажу сразу: тем, кто топит за “биток”, эту статью читать не стоит. Так как я в ней преподношу чисто субъективное мнение – моё » . В тексте наблюдается следование литературной норме, сленг использован в сочетании с элементами книжной речи: « Этой теме много лет и, как я считал, это отличный развод от зарубежных партнеров. Так я и считаю до сих пор ». Автор аргументирует свою позицию, логика подчеркнута использованием метакоммуникативных компонентов, говорящих о порядке подачи информации: « Начну с того, что те знакомые, с кем приходилось общаться, и даже те, у кого есть здоровый интерес, не могут внятно ответить на вопрос, что такое
“майнинг”. Но ладно, мы идем далее. Следующий вопрос, ради которого я и решил написать эту статью, это трафик. Ещё раз про трафик и скоростные характеристики. Ни разу не слышал о том, что это важно » .
Последнее предложение содержит вывод: « То есть биткоин – это отличный инструмент для перераспределения средств, а также для обеспечения актуальности новых разработок компании Nvidia » .
Автор текста устанавливает диалог с читателем, стремится логично представить свою точку зрения. Знакомство с этим текстом поможет обучающимся познакомиться со стилистикой массово-коммуникативного текста и использовать языковые средства для достижения различных коммуникативных целей.
При информировании о речевой агрессии важно подчеркнуть ценность человеческого достоинства, сказать о необходимости поддержки пострадавшего, разоблачения факта речевой агрессии (сообщить журналисту или редактору издания об обнаружении факта речевой агрессии, написать соответствующий комментарий). Эффективным средством борьбы с речевой агрессией является защита конкретной личности или группы людей.
Автор текста «Экстремальный лишний вес: проще сделать вид, что так и было за-думано » 2 выступает с критикой позиции в отношении внешности, характеризуемой как бодипозитив: «Еще одна история, которая подтверждает мой тезис: бодипозитив заканчивается, когда начинаются проблемы со здоровьем». Речевая агрессия находит выражение в иронии и использовании оскорбительной ассоци-
Репрезентация понятия «речевая агрессия» на занятиях по русскому языку ации: «Пиковый вес … перед похудением был около 270 килограмм, но это неточно, чтобы определить точный вес, взвеситься Лука мог только на промышленных весах для крупного рогатого скота». Резкий настрой автора отражает также использование возможностей словообразования: «Думаю, в конечном итоге, эта судьба ждет большую часть бодипозитивщиков…»
Еще более жесткие проявления речевой агрессии обнаруживаем в комментариях читателей. Авторы комментариев (Разноглазая и НищаяЯ) сравнивают поведение двух медийных персон, используя слова «клоун» и «алкоголичка». Обращает на себя внимание использование различных типов лексики в комментариях, имеющих противоположный настрой. В реплике-оправдании используется нейтральная лексика, автор расставил все необходимые знаки препинания: «… за время своей музыкальной карьеры дал более тысячи концертов. К 29 годам он стал лауреатом 16 международных музыкальных конкурсов, в 2001 году был награжден титулом почетного профессора Швейцарской консерватории».
Взаимодействие публикации блогера и комментариев являет собой пример противодействия речевой агрессии, основанный на анализе ситуации, представленной информации и четкой аргументации.
В тексте «Почему подсолнечное масло и другие масла из семян разрушают наш организм?»1 Александр Гримм отказывается от элементов авторского стиля (подчеркнутая вежливость, ирония) в пользу научности речи, использует маску эксперта в определенном вопросе. В статье автор доказывает вред и ненужность подсолнечного масла, сопоставляет факты в неожиданном ракурсе и предполагает, что археологи ошиблись, датируя артефакты. За счет введения специальных терминов (метаболизм, митохондрии, полиненасыщенные масла) статья воспринимается как достоверная, однако ее содержание опровергает автор одного из комментариев, который замечает ошибочные основания рассуждения. В комментарии содержится разоблачительная фраза: «Собственно, раз предпосылки статьи не верны, остальные выкладки не интересны. Очередное наведение тени на плетень». В комментарии сочетаются элементы книжной и разговорной речи: «Абсолютно ничем не доказанное утверждение. С чего бы оно не усваивалось? Это естественный компонент семян, семечек и орехов».
Критический анализ показывает манипулятивный характер текстов, так как здесь прослеживается стремление к изменению стереотипа, существующего в обществе.
Н.Е. Петрова и Л.В. Рацибульская [5] подчеркивают, что современное русскоязычное общество в качестве эталона речи по-прежнему представляет язык СМИ, однако безответственные журналисты и блогеры «стимулируют рост речевой агрессии», способствуя формированию «остроконфликтной социальной среды» [5, с. 5]. Обществу предлагаются «порочные образцы речевого поведения». Важно, что анонимные авторы комментариев – читатели и зрители – тоже теряют представление об ответственности за свои слова. Изучение речевой агрессии может сопровождаться интерактивными заданиями: проанализировать авторский стиль блогера и характер комментариев, найти примеры антиманипулятивного поведения и борьбы против речевой агрессии.
Вестник Российского нового университета
Серия «Человек в современном мире», выпуск 2 за 2025 год
Выводы
Репрезентация понятия «речевая агрессия» на занятиях по русскому языку требует описания ситуации, сложившейся в сфере СМИ. Особого внимания заслуживает вопрос о формировании конфликтной коммуникативной установки в обществе и путях противодействия речевой агрессии. Изучение взаимодействия понятий «язык вражды» и «речевая агрессия» позволяет привлекать разнообразный иллюстративный материал.
В результате исследования выявлены языковые средства, говорящие о возможности применения речевой агрессии и языка вражды. Для обнаружения этих приемов следует обратить внимание на лексический строй текста, явные и скрытые средства репрезентации позиции автора: нелитературную лексику, языковую игру, этикетные формулы, метакоммуни-кативные компоненты, обращения к чита- телю и призывы к действию, устойчивые формулы, характерные для стиля автора, создание повышенной эмоциональности, изменение логических взаимосвязей, возможность подмены фактов. Однако идентификация речевой манипуляции, речевой агрессии и языка вражды только на основе языковых средств невозможна, требуется анализ дискурса и коммуникативной установки, четкое определение адресата речевого воздействия. Наиболее явно речевая агрессия в виде оскорбления проявила себя в текстах светской хроники, так как здесь можно выявить адресата речевого воздействия. В «научном» дискурсе проявило себя манипулирование как подмена фактов. В экономическом (рекламном) дискурсе обнаружена манипуляция через создание особого образа адресата текста и повышенной эмоциональности публикации. Языковые средства, маркирующие речевую агрессию, создают иллюзию непосредственного общения.