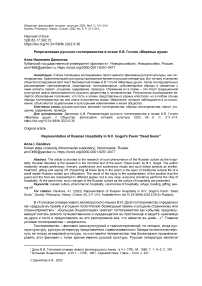Репрезентация русского гостеприимства в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души»
Автор: Данилова Анна Ивановна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Культура
Статья в выпуске: 6, 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию такого важного феномена русской культуры, как гостеприимство. Хранительницей культурных феноменов является русская литература. Вот почему в качестве объекта исследования взят текст бессмертной поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души». Автор последовательно рассматривает прелиминарные, лиминарные, постлиминарные, сублиминарные обряды и связанные с ними аспекты (приют, угощение, одаривание, проводы). Отражение их в поэме - это пласт традиционной культурной жизни мелкопоместного русского дворянства и чиновничества. Результатом исследования является обоснование положения, что гость и хозяин представлены в разных ипостасях, но в любом случае обряды гостеприимства так или иначе исполняются всеми. Изменения, которые наблюдаются в их исполнении, объясняются социальными и культурными изменениями в жизни общества.
Русская культура, феномен гостеприимства, обряды гостеприимства, приют, угощение, одаривание, проводы
Короткий адрес: https://sciup.org/149140386
IDR: 149140386 | УДК: 82-17:392.72 | DOI: 10.24158/fik.2022.6.36
Текст научной статьи Репрезентация русского гостеприимства в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души»
Кубанский государственный университет (филиал в г. Новороссийске), Новороссийск, Россия, ,
Kuban state university (Novorossisk subsidiary), Novorossisk, Russia, ,
В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля гостеприимство определено как «радушiе въ прiемѣ и угощениi посѣтителей; безмездный прiемъ и угощенiе странниковъ или страннопрiимство»1. «Большая Энциклопедiя» трактует гостеприимство как «обычай, предписы-вающiй считать всякого путешественника и нуждающагося въ пристанищѣ и защитѣ чужеземца за друга и гостя и предоставлять въ его распоряженiе все, что имѣется въ домѣ…»2. Главное условие гостеприимства – искренность.
Гостеприимство – феномен кросскультурный и трансисторический, но сегодня, когда русскую культуру, русскую литературу представители «цивилизованного» Запада пытаются вычеркнуть не только из мировой культуры, но и из памяти человечества, тем более важно проанализировать этот феномен с точки зрения именно русской культуры. Русская литература является своеобразной хранительницей культурных феноменов, а поэму Н.В. Гоголя «Мертвые души» с полным правом можно назвать энциклопедией русского гостеприимства. И хотя сам автор говорит, что его задача – «показать недостатки и пороки русского человека, а не его достоинства и добродетели»1, но, изображая путешествующего по России Чичикова, он невольно показывает и особенности русского гостеприимства. На основе культурно-исторического метода исследования литературного произведения мы рассмотрим данный феномен.
Традиционная культура исходит из того, что мир делится на «свой» и «чужой». Концептом «своего» мира – мира знакомого и освоенного – является Дом, центр мироздания для человека. Дом гостя, напротив, – мир неизвестный, неосвоенный, «чужой», мир сакральный. Однако «сакральное не сакрально само по себе, но может оказаться таковым в определенных ситуациях. Человек, который живет в своем доме, в своем клане, живет в светском мире, но как только он отправляется в путешествие и оказывается в качестве чужака вблизи неизвестного лагеря, то оказывается уже в сфере сакрального» (Геннеп, 1999: 16–17). Таким образом, гостеприимство связано с принятием чужого человека как своего.
Чтобы «чужой» стал «своим», соблюдались специальные обряды. А. ван Геннеп выделил 3 группы таких обрядов: прелиминарные (обряды отделения от прежнего мира), лиминарные (обряды, совершаемые в промежуточный период) и постлиминарные (обряды включения в новый мир) (Геннеп, 1999). На наш взгляд, необходимо выделить также сублиминарные обряды, т. е. обряды исхода, при которых гость возвращается в «чужой» мир.
Рассмотрим, как эти обряды отражаются в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». Если считать город NN и имения помещиков «чужим» миром, то Павел Иванович Чичиков прошел все этапы входа в него. Конечно, время вносит свои коррективы, и путешествующий по России Чичиков уже не осознает себя в «чужом» мире, но обряды, быть может, неосознанно выполняются всеми – и приезжими, и встречающими. Прелиминарные обряды требовали освобождения от всего, что было связано с дорогой: «во дворе остается повозка; у порога – обувь и посох, в сенях – верхняя одежда и сумки» (Вейнмейстер, 2013). Павел Иванович, прежде чем найти приют в гостинице губернского города NN, оставляет перед ее порогом коляску, в своем номере «скинул с себя картуз и размотал с шеи шерстяную, радужных цветов косынку»2.
Прелиминарные обряды включали угощение. Обед должен был продемонстрировать хлебосольство встречающей стороны, радушие хозяев. Конечно, при описании обеда каждое слово дышит иронией (щи были поданы «с слоеным пирожком, нарочно сберегаемым для проезжающих в течение нескольких неделей», «вечный слоеный сладкий пирожок, всегда готовый к услу-гам»3), но нельзя не заметить, что даже в этом, весьма убогом, месте соблюдены все ритуалы гостеприимства: гость встречен, размещен в номере, накормлен, причем кормление сопровождается обязательной беседой.
После знакомства с городскими чиновниками, признаком гостеприимства у которых является угощение, происходит посещение Чичиковым имений помещиков. Первым в этой череде стоит Манилов. С ним Чичиков знакомится в городе. Приехавший гость – долгожданный гость! – уже воспринимается как «свой», поэтому прелиминарные и лиминарные обряды либо опускаются, либо совершаются очень быстро, и мы наблюдаем соблюдение постлиминарных обрядов, при которых происходит переход Чичикова из мира «чужого» (мира гостя) в мир «свой» (мир хозяев): обе стороны уже готовы к дружескому общению, происходит не просто рукопожатие – «Оба приятеля очень крепко поцеловались, и Манилов увел своего гостя в комнату»4. Соблюдение постлиминарных обрядов проявляется в пропускании гостя вперед. У Манилова этот обряд затянулся, но постоянное упоминание добродетелей гостя говорит о безоговорочном принятии Чичикова в «свой» мир. Здесь важно заметить, что неслучайно герои остановились в дверях, так как «дверь – это рубеж между чуждым миром и миром домашним» (Геннеп, 1999: 24).
Постлиминарные обряды предполагают совместную трапезу, поскольку она «трансформирует ездока в едока, человека дороги в члена домашнего коллектива» (Вейнмейстер, 2013: 151). Кроме того, при совместной трапезе «двое людей на деле дают залог доброго расположения друг к другу; один гарантирует другому, что не будет злоумышлять против него; ведь совместная еда физически объединила их и всякий вред, причиненный сотрапезнику, рикошетом с той же силой ударит по злоумышленнику» (Фрэзер, 2006: 16). Приглашение к столу сопровождается обязательным извинением: «Вы извините, если у нас нет такого обеда, какой на паркетах и в столицах, у нас просто, по русскому обычаю, щи, но от чистого сердца»5.
Манилов знакомит Чичикова не только с женой (которая тоже воспринимает его как давнего знакомого), но и с детьми, что является свидетельством высшего доверия к гостю.
Сублиминарные обряды предполагают момент одаривания и такой исход гостя, при котором он, с одной стороны, как можно дольше остается в зоне хозяев, а с другой – должен унести с собой хорошие воспоминания о них. Все это мы наблюдаем при прощании четы Маниловых с Чичиковым. Правда, одаривание происходит весьма своеобразно. Чичиков прибыл в дом Манилова без подарков, поэтому он обещал в следующий раз привезти детям гостинцы: саблю и барабан. Прощание оказывается продолжительным: хозяин дома «долго стоял на крыльце, провожая глазами удалявшуюся бричку, и когда она уже совершенно стала невидна, он все еще стоял, куря трубку… А Чичиков в довольном расположении духа сидел в своей бричке, катившейся давно по столбовой дороге»1.
Таким образом, все законы гостеприимства – совершенно искренне – в семье Маниловых соблюдены.
Особенно яркое соблюдение всех обрядов мы наблюдаем в имении помещицы Настасьи Петровны Коробочки. Чичиков попадает в ее дом случайно, так как во время разыгравшейся непогоды возница сбился с дороги. Чичикова не сразу пускают в дом. Казалось бы, законы гостеприимства нарушены, но и этому факту есть объяснение. С развитием постоялых дворов, с появлением гостиниц постепенно уходила традиция принимать чужого человека в доме. Однако дворянское звание сыграло свою роль – Чичикову предлагают ночлег. И вновь можно наблюдать последовательное соблюдение всех обрядов вхождения человека в «чужой» мир: предлагается удобная постель, снимается испачканная верхняя одежда (которая будет высушена и вычищена). Единственно, о чем сокрушается хозяйка – нечем накормить неожиданного гостя, хотя чай предлагается. Радушие Коробочки проявляется и в том, что она предлагает Чичикову, узнав, что его коляска опрокинулась, чем-нибудь потереть спину, почесать перед сном пятки. Важно отметить, что в строгом соответствии с прелиминарными обрядами Коробочка ни о чем не расспрашивает приезжего (он, кстати, тоже именем хозяйки не интересуется).
Знакомство состоялось только утром. И тут гостеприимство хозяйки проявилось сполна. Из угощения «на столе стояли уже грибки, пирожки, скородумки, шанишки, пряглы, блины, лепешки со всякими припеками: припекой с лучком, припекой с маком, припекой с творогом, припекой со сняточками, и невесть чего не было»2. В «невесть что» попали пресный пирог с яйцом и блинки.
Соблюдается и обряд одаривания. Чичиков «дарит» Настасье Петровне «какой-то лист в рубль ценою»3, а та, в свою очередь, в строгом соответствии с правилами сначала всячески задерживает его, а потом тоже одаривает: дает девчонку, чтобы проводила. Кроме того, одаривание проявляется в том, что лошади гостя были вычищены, а хомут искусно зашит.
Ноздрев единственный из героев поэмы не придерживается никакой последовательности в соблюдении обрядов. С Чичиковым он «в несколько минут сошелся на такую короткую ногу, что начал уже говорить ты , хотя, впрочем, он с своей стороны не подал к тому никакого повода»4. Для Ноздрева, на наш взгляд, существует только «свой» мир. Именно поэтому он с легкостью включает в «свои» не только людей, но и владения соседей. И все-таки законы гостеприимства соблюдены и Ноздревым, хотя дом его не предназначен для гостей в отличие от Манилова, у которого даже «кресло… ассигновано для гостя»5. Правила гостеприимства соблюдаются в части угощения. Правда, «обед, как видно, не составлял у Ноздрева главного в жизни; блюда не играли большой роли: кое-что и пригорело, кое-что и вовсе не сварилось. Видно, что повар руководствовался более каким-то вдохновеньем и клал первое, что попадалось под руку…». Главным предметом угощения стали вина: портвейн, госотерн («потому что в губернских и уездных городах не бывает простого сотерна»), мадера, особенная бутылка, которая «была и бургоньон и шампаньон вместе», рябиновка, бальзам6.
Несмотря на то, что между новоиспеченными друзьями произошла размолвка, Ноздрев все-таки предлагает Чичикову ночлег, правда, доброй ночи желать не хочет.
И уж совсем не соблюдаются сублиминарные обряды. «Гостеприимство» Ноздрева заканчивается потасовкой. Исход был печальным, так как Чичикову пришлось спасаться бегством.
Собакевич, который также был знаком с Чичиковым, тоже довольно быстро вводит его в «свой» мир, о чем свидетельствует и характер их «дружеской» беседы, и, конечно, угощение, представленное по всем правилам русского гостеприимства. Именно при угощении Собакевич четко делит мир на «свой» и «чужой». Он ругает повара-француза и хвалит русский обед.
Сублиминарные обряды тоже соблюдаются: Чичиков получает приглашение еще раз посетить имение, и проводы достаточно долгие: «Когда бричка выехала со двора, он оглянулся назад и увидел, что Собакевич все еще стоял на крыльце…». Однако в отличие от Манилова Собаке-вичем движет не искренность, а желание узнать о дальнейших намерениях гостя. И у Чичикова в ответ на это вырывается только «Подлец, до сих пор еще стоит!»1.
Как видим, гостеприимство Собакевича хотя и традиционно, но носит характер внешний, является корыстным.
Обряды гостеприимства, правда, весьма своеобразно, соблюдает даже Плюшкин. Как пишет Н.В. Гоголь, «так как гостеприимство у нас в таком ходу, что и скряга не в силах преступить его законов, то он прибавил тут же несколько внятнее: “Прошу покорнейше садиться!”»2.
Плюшкин хорошо знаком с законами гостеприимства. Он приглашает Чичикова в комнаты, а далее перечисляет все, что должно быть выполнено: надо накормить не только гостя, но и его лошадей. Однако на этом перечислении прелиминарные обряды и заканчиваются.
Из обрядов гостеприимства Плюшкин делает попытку соблюсти обряды угощения, одаривания и проводов. Приказано поставить самовар и принести сухарь из кулича, предложена рюмочка ликера; делается попытка задержать гостя. Вершиной проснувшихся чувств Плюшкина является мысленное желание одарить Чичикова часами, замененное на упоминание в завещании.
Таким образом, исследование текста поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души» показывает, что как гость, так и хозяин представлены в разных ипостасях: ожидаемый гость – радушный хозяин, нежданный гость – гостеприимный хозяин, внезапный гость – нежеланный хозяин, знакомый гость – расчетливый хозяин, нежеланный, нежданный гость – скупой хозяин. В соответствии с этим обряды гостеприимства соблюдаются в разном объеме и с разной долей искренности, но в любом случае исполняются всеми. Изменения, которые наблюдаются в исполнении обрядов гостеприимства, объясняются социальными и культурными переменами в жизни общества: постепенно уходила патриархальность, порождая настороженность к незнакомцам («чужим»), появление зачатков капитализма приводило к проявлениям меркантильности в отношениях между людьми.
Список литературы Репрезентация русского гостеприимства в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души»
- Вейнмейстер А.В. Гостеприимство: к определению понятия // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. 2013. № 2. С. 147-153.
- Геннеп А. Ван. Обряды перехода: Систематическое изучение обрядов / пер. с франц. М., 1999. 198 с.
- Фрэзер Дж.Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии / пер. с англ. М., 2006. 958 с.