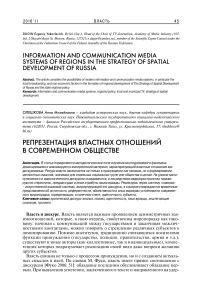Репрезентация властных отношений в современном обществе
Автор: Олешкова Анна Михайловна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Коммуникации и общество
Статья в выпуске: 11, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье определяется методологическое поле изучения многоуровневого феномена доминирования и анализируется эмпирический материал, характеризующий властные отношения как дискурсивные. Ресурс власти заключается не только в принуждении как таковом, но и формировании ценностных смыслов, значимых для отдельных социальных групп или общества в целом. На уровне манипулятивного и идеологического дискурсов складываются, а посредством медиапространства тиражируются стереотипы, предрассудки и иные атрибуты языка вражды. Реализуясь через систему «новояза» - искусственной языковой системы, аккумулирующей эти дискурсы, в социуме утверждаются временные представления об истинности, референтности, объективности и иных маркерах устойчивости современного миропорядка, определяющих, в конечном счете, идентичность субъекта.
Критический дискурс-анализ, новояз, идентичность, язык вражды, хештегизация сознания, троллинг
Короткий адрес: https://sciup.org/170168224
IDR: 170168224
Текст научной статьи Репрезентация властных отношений в современном обществе
Власть и дискурс . Власть является важным проявлением асимметричных взаимоотношений, которые, в свою очередь, свойственны миропорядку как таковому: начиная с коммуникаций между государствами и заканчивая межличностными контактами, можно говорить о стремлении различных субъектов к доминированию. Помимо институтов, традиционно считающихся носителями функции принуждения (государство, полиция, правительство, армия и т.д.), существуют и иные акторы (как коллективные, так и индивидуальные), компетенция которых подразумевает реализацию своей воли даже вопреки желанию других субъектов.
Власть связана не только с процессом принуждения, но и с созданием актуальных смыслов и идей. По словам М. Фуко, власть имеет прямое соотношение с дискурсом [Фуко 2006: 51]: обладание последним обусловливает обладание первым. При выявлении угнетения, заключенного в тексте и направленного на удер- жание влияния над кем-либо, можно определить категории более глобального характера, которые присутствуют в языке и обусловливают социальные роли в обществе: паттерны, последовательности, иерархии. В этой связи нужно понимать, что существуют различные трактовки дискурса в отношении его структурированности и предвзятости [Матисон 2013: 25, 26]. Это обстоятельство должно учитываться при анализе проявлений социальной жизни, характеристике различных культурных практик и их оценке.
Медиадискурс . Категория «власть» является системообразующей для различных социальных контекстов [Штомпка 2005: 386]. Обладание властью – показатель контроля над данным контекстом. Медиапространство, представленное телевидением и сетью Интернет, является мощным агрегатором смыслов, возможно, с точки зрения степени доступности, публичности, массовости и концентрации в едином информационном поле – основным контекстом для современного человека. Источником закрепления и порождения мифов, стереотипов, редукций становятся относительно новые медиа: социальные сети, блоги, онлайн-программы и др. интерактивные медиа. При этом медиапространство – это единственное пространство, которое позволяет нам считать, что мы осведомлены о динамике протекания процессов, к которым мы не имеем прямого отношения. Именно в нем маркируются ценностные смыслы и оценки отдельных фрагментов действительности.
Смыслы, порождаемых в медиапространстве, являются референтными для определенной части общества и подлежат активному воспроизводству в том или ином виде. В этой связи для социального анализа существует несколько эпистемологических сложностей, которые указывают на непрозрачную для верификации ситуацию и ее участников. Важную роль в создании смыслов играют определенные экспертные группы, однако в медиапространстве трудно обозначить конкретного субъекта трансляции смысла. Т. Ван Дейк отмечает, что именно группы элит формируют позиции общества [Ван Дейк 2013: 41], однако в случае с медиадискурсом фактор компетентности «говорящего социума» скорее будет являться допущением. В условиях глобализации и информатизации власть, как и идеология, не является опцией одного субъекта. Функционирование современного медиапространства сопровождается усложнением социальных взаимоотношений между субъектами, вовлеченными в него. Виртуализация современного общества усиливает его дискурсивность.
Дискурс-анализ и критический дискурс-анализ. Современные социальные и гуманитарные исследования активно используют дискурсные методологии. Дискурс-анализ – это междисциплинарное исследовательское направление, исходящее из ключевой роли языка в специфике функционирования общества. В частности, оно позволяет установить связь между СМИ и другими институтами общества. С помощью дискурс-анализа можно изучать медиапространство как контекст формирования позиции общества по различным вопросам, а также исследовать процесс его медиализации [Матисон 2013: 13]. Важной задачей, достижение которой возможно только при участии различных научных направлений, является понимание способа мышления, характерного для того или иного общества, и установление связей между мышлением, сознанием и культурой.
В целом дискурс-анализ позволяет выявлять репрезентации «чужой» и «своей» культуры. В современном обществе указанная поляризация проявляет себя в отделении мира христианского от мира мусульманского, что, например, обусловлено общественной реакцией на теракты в европейских странах, с одной стороны, ближневосточных, африканских и азиатских государствах – с другой. Несмотря на общепризнанность ценности человеческой жизни, сопереживание «чужому» оказывается гораздо сдержаннее, нежели восприятие «своей» трагедии. Немаловажным фактором, способствующим этому ментальному размежеванию, становится и медиапространство, в котором демонстрация упомянутых событий даже в количественном отношении не соответствует масштабу случившегося: число жертв терактов в странах Ближнего Востока (Сирия, Ирак), Азии (Афганистан, Пакистан) и Африке (Мали, Нигерия), а также их периодичность гораздо выше, нежели в Европе, однако в медиапространстве фактически отсутствует рефлексия трагедий в странах Востока, скорее напротив, их собирательный образ описывается не как «жертва», а как «враг».
Отношение людей друг к другу, к процессам и явлениям, выраженное в языке, не только отражает их собственный стиль жизни, но и порождает определенный тип культуры, который следует понимать в конкретно-историческом измерении.
«Новояз» в системе дискурса . Категория «новояз» активно используется применительно к языку тоталитарных обществ. Однако глобальная современность, представленная текстом, определила тренд на власть посредством слова. В этой связи современный «новояз» – искусственная языковая система, которая выступает одновременно как маркер и способ формирования социокультурной реальности. «Новояз» как дискурс власти реализуется в медиапространстве, которое в условиях анонимности и деперсонификации может рассматриваться как коллективный носитель идеологии. Использовать данную категорию нам позволяет квазиполитичность большинства тем, которые попадают в поле активного обсуждения в медиапространстве: экология, религия, спорт, культура, бизнес. В этой связи «новояз» не только передает реакцию социума на резонансные события и конструирует сам предмет дискуссии, но и определяет идентичность субъектов как временных вместилищ собственного «я».
Учитывая сложность и противоречивость современных социокультурных и политических процессов, критический дискурс-анализ, вовлекающий практики мультимодального анализа, располагает разнообразным материалом для исследования. Относительно новыми источниками, которые позволяют изучить дискурс по схеме «текст + контекст» и приблизиться к пониманию механизма формирования социокультурной реальности через гетерогенные дискурсивные практики, являются заголовки новостей, комментарии к ним, карикатуры, мемы, демотиваторы, наклейки на автомобили и др.
В рамках российских реалий следует отметить событийный ряд внешнеполитической и внутриполитической направленности, вокруг которого с 2011 г. по настоящее время формируется современный «новояз». Важными событиями стали выборы в Думу и президентские выборы (2011 и 2012 гг.), резонансные законопроекты новой Думы, коррупционные скандалы и перестановки в эшелонах власти. На динамику внутренней политики оказали влияние противоречивые процессы (с 2013 г. по настоящее время) в Украине, Сирии, Турции и реакция на них США и ряда стран Евросоюза. Указанные направления в политике породили ряд тем для дискуссий в медиапространстве, что стало основой для современного российского «новояза», вовлекающего политическую проблематику фактически в любой дискурс.
Вот примеры современного российского «новояза».
Власть, коррупция, выборы: «маски-шоу», «пакет яровой», «загон», «бизьнес», «ылита», «нанозарплата», «госдура», «кремлеботы», «взбесившийся принтер» и др.
Запад: «Фашингтон», «киларша», «трампизация мира», «баба Хилли», «Гейропа», «еврейцы», «Наглия», «Банан Обама», «Наты» и др.
Восток: «восточный дворик», «Пердоган», «Ердоган», «Эрдогаша», «Жапония», «brat arab» и др.
Украина: «хахлы», «правосеки», «майдаун», «майданутый, «Бандеростан», «Укропия», «Юкрейна», «Усраина», «Потрошенко», «Парашенко», «Парашка», «Вальцман и Ко» и др.
Помимо новейших проявлений «новояза», сохраняются устоявшиеся наименования: «хохлы», «пиндосы/пендосы», в современности эти понятия могут приравниваться («американские хозяева»).
Своего рода матрицей для понимания идеологической позиции «говорящего социума» стала дихотомия «власть – оппозиция» , наполненная разнообразными высказываниями о «своих» и «чужих»: «путиноиды», «жоппозиция», «ноябли-сты», «демо-шиза», «либерасты», «провославнутые», «швобода», «грантососы», «протестность головного мозга», «православие головного мозга» и др.
Основная масса всех обозначенных примеров отражена в комментариях к новостям и аналитическим материалам, размещенным в социальных сетях и на информационных порталах, при этом обозначенные (или близкие им) «послания» используется не только в онлайн-форматах общения, т.е. в медиапространстве (преимущественно Интернет и частично – телевидение), но и в оффлайне, т.е. в реальной речевой и социальной практиках.
Для «новояза» характерны нарочитое искажение правописания, конструирование новых терминов с использованием ненормативных корней, игра слов, ведущие либо к уничижению оппонента, либо к демонстрации несерьезности описываемых явлений и процессов. Обозначенные примеры позволяют составить представления об образах врага, которые господствуют в обществе; понять, какие события современной повестки дня (в т.ч. международной) рассматриваются негативно, а какие, напротив, поддерживаются; выявить распространенные упрощенные образы действительности (стереотипы) и основные объекты дискриминации. В российском «новоязе» враг показан через представление о неполноценности в сексуальной и интеллектуальной сфере, однако стратегий представления врага существует гораздо больше [Филинский 2002: 56-86]. Одним из важных вопросов, который объединяет большинство примеров, является проблема свободы, безопасности личности, истинности информации («деза»). Каждая сторона считает, что «враг» покушается именно на эти категории.
В политическом пространстве России циркулирует вполне однозначное восприятие (без полутонов) происходящих событий, при этом можно выделить их полярные оценки. Однако трактовки этих событий не лишены синкретичности, когда сочетаются и уживаются друг с другом противоречивые феномены как на уровне синхронии, так и диахронии: война, мир, религия, месть; одновременно приветствуются дореволюционные, революционные, советские, постсоветские идеалы.
Обоснование идеологичности «новояза» – это одновременная аргументация в пользу использования данного понятия при существующих смежных терминах: политический сленг, политический дискурс, язык ненависти, медиадискурс, олбанский язык и др. В целом, в медиапространстве «говорящий социум», состоящий из полуанонимных субъектов, можно разделить на условных «либералов» и «славянофилов», в дискуссиях между которыми важными темами являются политика (прежде всего внешняя) и история (прежде всего военная). Если история и внешняя политика – устойчивые константные ориентиры для «войны риторик», то внутриполитические события – локальные, однако также активизирующие споры вокруг идеологических вопросов. Важным примером являются многочисленные законы, принятые Государственной думой 6-го созыва, и общественная реакция на них.
Дискурс-анализ предполагает учет контекста развертывания дискурса. Языковая практика опосредована социальным локусом, вследствие чего «лингвистические конвенции» не являются константой [Eckert, McConnell-Ginet 2003: 52-53]. В современном «новоязе» также существуют общие для обеих групп категории, которые можно интерпретировать исключительно в контексте: «патриот», «Крым наш», «духовные скрепы». Внеконтекстными, которые при любом употреблении и с позиции любой из сторон считаются негативными, являются сравнения оппонента с фашистом и в меньшей степени – с пропагандистом («фашистская хунта», «пропагандоны»). Именно общие и внекон-тестные категории являются демаркационной линией при обвинении одних в отношении других (например, в русофобии или в прислужничестве Западу).
В медиапространстве отношения доминирования, гегемония и безапелляционность оценок проявляют свою устойчивость и относительную пролонгирован-ность через категорию «хештег» ( hashtag , символ #, подразумевающий сведение тематики по какому-либо вопросу под одно наименование, нередко оценочное). Вследствие сегментации смыслов и их связей с потенциальным субъектом можно говорить о феномене хештегизации сознания, указывающей на привязку субъекта к определенной информации, при которой дискурс опосредует ее субъекту; при этом складывается ситуация отсутствия добровольного выбора. При анализе доминирующих представлений, господствующих в медиапространстве, нужно учитывать и явление троллинга. Однако, несмотря на то что условный «тролль», по определению, тиражирует оценки, которые не отражают его предпочтения, такие дискурсивные практики позволяют выделить значимые для группы смыслы в зеркальной перспективе.
Таким образом, властные отношения в современном обществе, в котором важную роль играют символические системы, получают активную репрезентацию в медиапространстве, создающем новые условия для опосредования социального мира дискурсом. Актуальные события политической сферы находят свое отражение в «новоязе», который не только является реакцией социума на резонансные процессы и явления, но и способствует гегемонии смыслов, установлению способов мышления, характерных для общества или его части. Посредством процедуры негативного оценивания не только устанавливается власть над «другим», но и формируется собственная идентичность («я – не он»). Представляется, что условная схема, раскрывающая последовательность (и включенность) различных аспектов репрезентации отношений доминирования, вследствие которых определяются демаркации того, что в мире правильно, а что – нет, может быть следующей: «медиапространство → дискурс власти → дискурс манипуляции и идеологии → язык вражды → новояз → хештегизация сознания → социокультурная реальность».
Список литературы Репрезентация властных отношений в современном обществе
- Ван Дейк Т. 2013. Дискурс и власть: Репрезентация доминирования в языке и коммуникации (пер. с англ.). М.: КД «ЛИБРОКОМ». 344 с
- Жижек С. 2010. О насилии. М.: Европа. 184 с
- Матисон Д. 2013. Медиа-дискурс. Анализ медиа-текстов (пер. с англ.). Х.: Гуманитарный Центр (О.В. Гритчина). 264 с
- Филинский А.А. 2002. Критический анализ политического дискурса предвыборных кампаний 1999-2000 гг.: дис. … к.филол.н. Тверь. 143 с
- Фуко М. 1996. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности: работы разных лет (пер. с франц.). М.: Касталь. 448 с
- Штомпка П. 2005. Социология: анализ современного общества (пер. с польск. С.М. Червонной). М.: Логос. 664 с
- Eckert P., McConnell-Ginet S. 2003. Language and Gender. Cambridge University Press. 366 р