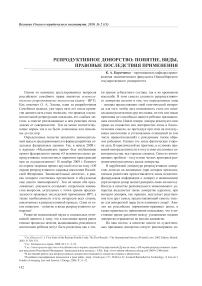Репродуктивное донорство: понятие, виды, правовые последствия применения
Автор: Кириченко К.А.
Журнал: Вестник Омской юридической академии @vestnik-omua
Статья в выпуске: 2 (13), 2010 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14317281
IDR: 14317281
Текст статьи Репродуктивное донорство: понятие, виды, правовые последствия применения
Определенные попытки заполнить законодательный вакуум предпринимаются в форме разработки отдельных федеральных законов. Так, в начале 2008 г. в журнале «Медицинское право» был опубликован проект федерального закона «О вспомогательных репродуктивных технологиях и гарантиях прав граждан при их осуществлении»2. В декабре 2009 г. Комитет по охране здоровья провел круглый стол на тему «Об охране репродуктивного здоровья населения Российской Федерации. Законодательные аспекты», в рамках которого состоялась презентация и обсуждение еще одного законопроекта3. Тем не менее оба предложенных документа оставляют открытыми множество вопросов, актуальных с точки зрения предсказуемости правовых последствий применения ВРТ, а также необходимости учета интересов всех сторон, вовлеченных в репродуктивный процесс. Один из таких вопросов – понятие и виды репродуктивного до-норства4.
Развитие медицинской науки и социальных отношений привело к тому, что в настоящее время ранее единые процессы зачатия, вынашивания, рождения и воспитания ребенка могут быть разделены как с точ-
К. А. Кириченко – преподаватель кафедры правоведения экономического факультета Новосибирского государственного университета ки зрения субъектного состава, так и во временном масштабе. В этом смысле сущность репродуктивного донорства состоит в том, что определенные лица – доноры предоставляют свой генетический материал для того, чтобы дать возможность стать его социальными родителями другим лицам, по тем или иным причинам не способным завести ребенка традиционным способом. Иначе говоря, доноры реализуют свое право на отцовство или материнство лишь в биологическом смысле, не претендуя при этом на последующее воспитание и установление отношений (в том числе правоотношений) с рожденным таким образом ребенком. Однако это лишь фактическая сторона дела. В юридической же практике, в условиях правовой неопределенности и отсутствия системного законодательства, все гораздо сложнее. Одна из возникающих проблем – отсутствие четких критериев разграничения различных видов донорства.
В зарубежной литературе репродуктивное донорство делится на анонимное (при котором предполагаемым родителям предоставляется лишь неидентифицирующая информация о доноре) и неанонимное (при котором донор желает раскрыть свою личность). Иногда в качестве разновидности неанонимного донорства выделяется также донорство адресное, при котором донором, как правило, выступает родственник или друг семьи, предоставляющий гаметы только для конкретной пары (или одинокого лица)5. Анализ же российских нормативно-правовых актов, а также практика их применения показывает, что в настоящее время различия между указанными видами донорства отражаются не вполне адекватно.
На наш взгляд, в качестве одного из существенных признаков донорства следует рассматривать из- начальное отсутствие в нем социальной составляющей родительства. Иными словами, у субъекта репродуктивного процесса должна быть возможность выбора: либо он становится донором, и тогда родительские правоотношения между ним и рожденным с помощью его гамет ребенком не возникают, юридическими родителями такого ребенка, в соответствии с нормами семейного права, будут считаться реципиенты, а оспаривание записи о родителях по мотивам отсутствия генетической связи будет исключено; либо он становится «основным» участником процесса репродукции, предоставляя свои половые клетки для того, чтобы в дальнейшем приобрести юридический статус родителя. В первом случае следует говорить о донорстве – анонимном, неанонимном или адресном, но именно о донорстве.
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации «О применении вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) в терапии женского и мужского бесплодия» от 26 февраля 2003 г.6 прямо предусматривает возможность и анонимного, и неанонимного донорства лишь в отношении донорства ооцитов. В отношении же донорства мужских гамет такого разделения не производится.
Все это способно порождать ситуации, в которых причиняется вред интересам и ребенка, и его биологических или социальных родителей. В своей консультационной практике автор настоящей работы уже сталкивался с подобными случаями. Так, одно из обращений было связано с просьбой мужчины и женщины помочь им заключить договор, согласно которому мужчина выступает в качестве неанонимного донора (то есть лишь предоставляет генетический материал), а женщина, не состоящая в браке, рожает ребенка и самостоятельно воспитывает его в дальнейшем. По замыслу обращающихся за консультацией данный договор должен предоставить им гарантии закрепления их первоначального намерения: не дать возможность мужчине впоследствии требовать установления отцовства в судебном порядке, а женщине – обращаться в суд с иском о взыскании алиментов с мужчины. Ни одно из подобных дел не привело пока к судебному разбирательству, однако в перспективе соответствующие споры могут стать предметом судебного рассмотрения, и в этом смысле можно высказать следующие соображения.
С одной стороны, ограничение на оспаривание отцовства биологическим отцом ребенка установлено Семейным кодексом только для случаев, когда предполагаемыми родителями выступили супруги (пункт 3 статьи 52), а суд при установлении отцовства принимает во внимание любые доказательства, с досто- верностью подтверждающие происхождение ребенка от конкретного лица (статья 49), – к примеру, генетическая экспертиза подтвердит биологическую связь ребенка с мужчиной. С другой стороны, приказ Минздрава 2003 г. говорит о том, что доноры не берут на себя родительских прав и обязанностей, и именно таково первоначальное намерение сторон. Кроме того, возникает вопрос о том, какой смысл вкладывал законодатель в термин «происхождение» при построении правил об установлении материнства и отцовства в отношении ребенка. Одно из решений, поддерживаемых нами, – расширительная трактовка данного термина, понимание происхождения как не только и не всегда генетической связи между ребенком и определенным взрослым лицом, учет не только биологической составляющей, но и намерения зачать, родить и впоследствии воспитывать ребенка7.
Некоторые страны уже сейчас закрепляют ясные и определенные нормы, предоставляющие возможность стать единственными юридическими родителями тем лицам, которые обращались за вспомогательной репродукцией. Один из таких примеров – законодательство Бельгии, которое использует специальный термин «авторы родительского проекта» (auteur du projet parental) , делая акцент на первоначальной воле сторон при наделении определенных лиц родительским статусом. Подобный термин («родительский проект» – projet parental ) использует также законодательство канадской провинции Квебек.
Судебная практика в отношении известного донорства складывается по-разному, но в принципе можно констатировать постепенный переход к признанию неанонимного донорства именно в качестве донорства и, соответственно, отказ в наделении донора юридическим статусом родителя.
В качестве примера, когда известный донор был признан отцом ребенка, можно назвать дело, которое рассматривалось в Новой Зеландии с 2002 по 2004 гг. по иску мужчины – биологического отца ребенка. Суть дела состояла в том, что женщина (проживающая в партнерстве с другой женщиной) обратилась к знакомому мужчине с просьбой стать донором гамет. Стороны пришли к соглашению о том, что женщина будет искусственно оплодотворена гаметами истца, после рождения ребенка он будет записан в свидетельстве о его рождении, однако проживать ребенок будет с женской парой, в то время как истец будет видеться с ним и принимать ограниченное участие в его воспитании. Через некоторое время после рождения ребенка и регистрации его рождения отношения между мужчиной и парой женщин испортились, истец хотел принимать большее участие в жизни ре- бенка, в связи с чем и обратился в суд. Рассматривая дело, суд первой инстанции пришел к выводу о необходимости применения нормы закона, специально рассчитанной на случаи донорства (при рождении ребенка одинокой женщиной донор не рассматривается в качестве юридического отца ребенка). Однако в итоге подобная трактовка была отвергнута, а требования мужчины удовлетворены. При этом вышестоящий суд руководствовался следующим: поскольку донор был известен женщине, родившей ребенка, ситуация более походила на простое зачатие вне брака, что придает истцу статус юридического отца. Помимо этого, было принято во внимание право ребенка знать своего биологического родителя и общаться с ним8.
Другую по существу позицию заняла Европейская комиссия в деле J.R.M. против Нидерландов, где заявитель – мужчина, выступивший в качестве известного донора для пары женщин, жаловался на нарушение его прав, гарантированных Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод. В частности, он ссылался на нарушение его права на неприкосновенность семейной жизни действиями внутренних властей: ему отказали в предоставлении права на доступ к ребенку, зачатому с помощью его генетического материала и воспитываемому после рождения в семье женщин. Заявитель считал, что отношения между ребенком и его биологическим отцом (в том числе отцом-донором) всегда составляют семейную жизнь, а даже если не принимать во внимание этот аргумент, именно семейная жизнь сложилась между ним и его биологическим ребенком, поскольку он регулярно посещал женщин в течение беременности, а также сидел с ребенком после его рождения в дневное время по понедельникам в течение девяти месяцев. Европейская комиссия посчитала жалобу неприемлемой, указав при этом следующее: во-первых, ситуация, когда лицо становится донором спермы лишь для того, чтобы дать возможность женщине забеременеть с помощью искусственной инсеминации, сама по себе не наделяет донора правом на уважение семейной жизни с ребенком; во-вторых, понятие «семейная жизнь» требует не только биологической связи, но и дополнительных факторов. В ситуации с заявителем его контакты с ребенком были ограничены во времени и интенсивности, а потому и семейная жизнь между ним и ребенком не сложилась9.
Первоначальное намерение сторон (и, соответственно, отказ в признании юридического родительского статуса за известным донором) признает и судебная практика тех юрисдикций, где легально закреплено понятие «родительского проекта».
Так, в деле Droit de la famille 2007 г. рассматривались требования мужчины, предоставившего свои гаметы для оплодотворения женщины, проживающей в стабильных отношениях с другой женщиной.
Две женщины – B. и C. – познакомились с мужчиной A. после нескольких безуспешных попыток искусственного оплодотворения и рассказали ему о своем намерении иметь ребенка. A. предложил им свою помощь, при этом женщины настаивали на том, что роль A. будет заключаться только в донорстве, хотя сам A. высказал пожелания видеться с ребенком время от времени. После того как B. забеременела, стороны подписали документ, согласно которому A. передает B. всю ответственность в отношении ребенка, а B. принимает всю ответственность на себя. В этом же документе стороны подписались под утверждением о том, что ребенку будет дано имя X., как того хочет A. После рождения ребенка в 2000 г. он был зарегистрирован под именем X., фамилией B., а графа «отец» была оставлена пустой. A. несколько раз встречался с ребенком, дважды предлагал женщинам финансовую помощь, однако они от нее отказались. Впоследствии отношения между женщинами и A. испортились, и они перестали предоставлять ему возможность видеться с ребенком. Новое законодательство, закрепляющее концепцию родительского проекта и предоставляющее возможность записи вторым родителем ребенка партнерши родившей его женщины, вступило в силу в 2002 г. В 2003 г. C. была записана вторым родителем ребенка. A. обратился в суд с требованием об оспаривании родительства C. и установлении его отцовства в отношении ребенка, зачатого с использованием его генетического материала.
Суд отклонил все требования A., указав при этом, что мужчина, являющийся биологическим отцом ребенка, не может быть признан юридическим отцом ребенка, родившегося с помощью искусственного оплодотворения, при наличии трех условий: существует родительский проект, сформированный одним или двумя лицами; донор спермы не участвует в этом проекте; донор спермы осознанно действует как помощник в осуществлении проекта, не являющегося его собственным. По поводу первого условия суд решил следующее: B. и C. хотели иметь детей еще до встречи с A., предпринимали попытки искусственного оплодотворения, а после рождения ребенка B. С. родила еще двух детей с помощью другого донора, при этом все дети носят одну фамилию. Исходя из этого суд посчитал, что B. и C. имели ясно сформированный родительский проект. Суд также посчитал установленным наличие двух других условий, поскольку ответчик был знаком со спецификой зачатия, рождения и воспитания детей в гомосексуальном сообществе, действовал осознанно и информированно, подписал вышеназванный документ, в котором говорил лишь о желании назвать девочку определенным именем, но не о принятии на себя функций и обязанностей отца10.
Возвращаясь к российской действительности, еще раз отметим, что действующее законодательство в части определения понятия, видов и правовых последствий репродуктивного донорства является не вполне определенным, не дает возможности заранее спланировать развитие событий и представляет в конечном счете угрозу благополучию всех вовлеченных в процесс репродукции лиц, а потому нуждается в серьезном обновлении. На наш взгляд, конкретизация указанных вопросов должна происходить именно на законодательном уровне, а в Семейный кодекс следует внести изменения, расширив область ограничений оспаривания отцовства путем включения в нее случаев анонимного, неанонимного и адресного донорства. Юридические инструменты, позволяющие фиксировать статус донора, могут быть различны (например, нотариально удостоверенный договор, судебная санкция, заявление донора, предоставляемое в репродуктивную клинику), однако их определение также представляется необходимым.
Список литературы Репродуктивное донорство: понятие, виды, правовые последствия применения
- См: Khazova O. A. Five Years of the Russian Family Code: The First Results//The International Survey of Family Law: 2002 Edition. Bristol, 2002. P. 350-351.
- Медицинское право. 2008. № 2. С. 3-10.
- Стенограмма круглого стола Комитета по охране здоровья Государственной Думы на тему: «Об охране репродуктивного здоровья населения Российской Федерации. Законодательные аспекты». URL: http://www.ohrana-zdorovja.ru/krug-stol-2009-12-08s.html
- Kindregan C.P., McBrien M. Assisted Reproductive Technology: A Lawyer's Guide to Emerging Law and Science. Chicago, 2006. P. 31-32.
- Рос. газ. 2003. 6 мая.
- Кириченко К. А. Эволюция доктринальных подходов к понятию родства в отечественном семейном праве//Вестник НГУ. 2007. Т. 3. Вып. 2. С. 18-27.
- Кириченко К. А. Современные теории оснований возникновения родительских прав//Семейное и жилищное право. 2008. № 6. С. 2-4.
- Legge M., Fitzgerald R., Frank N. A Retrospective Study of New Zealand Case Law Involving Assisted Reproduction Technology and the Social Recognition of 'New' Family//Human Reproduction. 2007. Vol. 22, No. 1. P. 20.
- J.R.M. v. the Netherlands: Admissibility decision of 8 February 1993. URL: http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search. asp?skin=hudoc-en
- Droit de la famille -07528, 2007 QCCA 361 (CanLII). Ontario: Canadian Legal Information Institute, [s. a.]. URL: http://www.canlii.org/en/qc/qcca/doc/2007/2007qcca361/2007qcca361.html