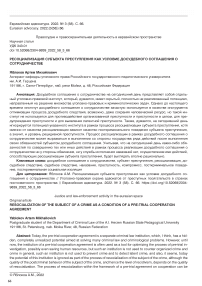Ресоциализация субъекта преступления как условие досудебного соглашения о сотрудничестве
Автор: Яблоков Артем Михайлович
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Правосудие и правоохранительная деятельность в Евразийском пространстве
Статья в выпуске: 3 (58), 2022 года.
Бесплатный доступ
Досудебное соглашение о сотрудничестве на сегодняшний день представляет собой отдельный уголовно-правовой институт, который, думается, имеет скрытый, полностью не реализованный потенциал, направленный на решение множества уголовно-правовых и криминологических задач. Однако до настоящего времени институт досудебного соглашения о сотрудничестве зачастую используется в качестве инструмента оптимизации процесса досудебного следствия, возможно, даже сохраняя человеческий ресурс, но такой институт не используется для противодействия организованной преступности и преступности в целом, для предупреждения преступности и для выявления латентной преступности. Также, думается, на сегодняшний день игнорируется потенциал указанного института в рамках процесса ресоциализации субъекта преступления, хотя именно от качества ресоциализации зависит качество посткриминального поведения субъекта преступления, а значит, и уровень рецидивной преступности. Процесс ресоциализации в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве может выражаться в выполнении со стороны государства ряда действий после выполнения своих обязанностей субъектом досудебного соглашения. Учитывая, что на сегодняшний день каких-либо обязанностей по совершению тех или иных действий в рамках процесса реализации досудебного соглашения о сотрудничестве ни у стороны обвинения, ни у службы исполнения наказаний нет, осуществление ими действий, способствующих ресоциализации субъекта преступления, будет выглядеть вполне рационально.
Досудебное соглашение о сотрудничестве, субъект преступления, ресоциализация, досудебное следствие, судебное следствие, наказание, преступность, компромисс, посткриминальное поведение, посткриминальная социальная изоляция
Короткий адрес: https://sciup.org/140296652
IDR: 140296652 | УДК: 343.01 | DOI: 10.52068/2304-9839_2022_58_3_66
Текст научной статьи Ресоциализация субъекта преступления как условие досудебного соглашения о сотрудничестве
Институт досудебного соглашения о сотрудничестве введен в отечественное уголовно-правовое поле на основании Федерального закона от 29 июня 2009 года № 141-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» и за прошедший период времени проявил себя как отдельный и самостоятельный институт. C тех пор раскрыто не одно особо тяжкое преступление, задержан не один профессиональный преступник. И, возможно, 10 лет для истории – весьма ничтожный период, но рассуждать о результатах применения института досудебного соглашения о сотрудничестве, как представляется, уже пора, как и о его дальнейших перспективах и возможностях.
Несмотря на то, что исследуемый институт был введен в уголовно-правовое поле с целью оптимизации процесса организации досудебного следствия, а также с целью оказания сопротивления становлению организованной преступности, прошедший период свидетельствует о том, что институт досудебного соглашения о сотрудничестве применяется в большей части для упрощения процесса расследования и для облегчения нагрузки на следственный корпус. Так, при снижении уровня преступности в России (таблица 1) уровень раскрываемости также снижается (таблица 2), при этом отмечается увеличение количества тех субъектов, которые возвращаются после осуждения к ведению преступной деятельности (таблица 3) [1].
Таблица 1
|
Год |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Уровень преступности |
2 058 476 |
1 991 532 |
2 024 337 |
2 044 221 |
2 004 404 |
Таблица 2
|
Год |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Уровень раскрываемости |
54,3 % |
54,6 % |
52 % |
50,5 % |
51,4 % |
Таблица 3
|
Год |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Уровень рецидива |
58,2 % |
58,3 % |
58,7 % |
59,8 % |
60 % |
Данные статистики свидетельствуют, вероятно, о том, что применение инструмента – института досудебного соглашения о сотрудничестве, введенного ранее в уголовно-правовое поле, не обнаруживает достижения поставленных задач и требует, как представляется, иного подхода, реформирования, так как сам по себе исследуемый институт обладает весьма высоким потенциалом в рамках процесса противодействия становлению преступности. С помощью института досудебного соглашения о сотрудничестве раскрыто немало тяжких и особо тяжких преступлений, о чем свидетельствуют факты применения исследуемого института.
Так, в апреле 2022 года Хамовнический районный суд Москвы приговорил к пяти годам строгого режима предпринимателя Алексея Калитина, который передал представителям Минобороны рекордную в истории военного ведомства взятку в размере более 650 млн рублей за победу в конкурсах на заключение государственных контрактов. После заключения в рамках досудебного следствия досудебного соглашения о сотрудничестве, благодаря показаниям А. Калитина, на скамье подсудимых оказался уже целый ряд высокопоставленных представителей Минобороны: экс-начальник продовольственного управления Минобороны, экс-эксперт продовольственного управления Минобороны, экс-начальник отдела проведения конкурентных процедур по государственному заказу департамента государственных закупок Минобороны, а также экс-начальник отдела технического обеспечения продовольственного управления Минобороны [2].
В мае 2022 года Березовский районный суд Красноярского края рассмотрел уголовное дело о масштабных хищениях в красноярском банке «Канский» и осудил бывшего председателя правления финансовой организации Олега Финка, который обвинялся в присвоении 610 млн руб. и отмывании денег, приговорив последнего к шести годам колонии общего режима, приняв при этом во внимание то, что бывший финансист полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве: раскрыл схемы вывода средств через проекты кредитования банка и с депозитных счетов клиентов, а также подтвердил показания на очных ставках [3].
В августе 2022 года Кировский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении экс-начальника таможенного поста «Лесной порт» Андрея Курочкина, признанного виновным в получении взятки в размере 1,8 млн рублей, назначив последнему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет условно с испытательным сроком 4 года, а также обязав выплатить штраф в размере 3 582 000 рублей, запретив при этом занимать государственные должности в течение 5 лет. Результат в виде весьма мягкого наказания обеспечило заключенное и удостоверенное в суде досудебное соглашение о сотрудничестве [4].
Безусловно, досудебное соглашение о сотрудничестве, обладая всеми признаками договора, способно быть примененным с целью достижения тех или иных общественно-важных задач, связанных с обеспечением общественной безопасности. В рамках досудебного соглашения, форма которого установлена главой 40.1 УПК РФ, предусмотрено наличие сторон, а также их прав и обязанностей. Однако важно отметить, что динамика применения досудебного соглашения в рамках уголовного дела демонстрирует падение интереса к исследуемому институту, что дополнительно свидетельствует о необходимости его переосмысления (таблица 4) [5].
Таблица 4
|
Год |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Количество заключенных ДСОС |
4 561 |
4 091 |
3 469 |
3 132 |
3 111 |
При этом, думается, досудебным соглашением установлены обязанности лишь в отношении субъекта преступления и суда, сторона обвинения, следуя своим интересам, соблюдает только порядок заключения и реализации соглашения, предлагая «возможность» получения снисхождения со стороны суда в будущем, но не гарантируя непосредственно снисхождение по причине отсутствия определенных полномочий.
Кроме того, указанным выше осуждённым (Калитину, Финку и Курочкину) назначено наказание «ниже низшего» предела, но такое наказание выражается лишь в количественном показателе. После вынесения приговора сформированный субъект, склонный к девиантному поведению, остается «наедине с собой», Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) Российской Федерации лишь осуществляет контроль «внешнего поведения» осужденного, о каком-либо внутреннем реформировании осужденного речь не идет…
При этом учитывая, что досудебное соглашение о сотрудничестве (ДСОС) обладает признаками договора, внедрение новых условий возможно, а внедрение условий, которые бы способствовали становлению просоциальной ситуации относительно уровня преступности, представляется и вовсе рациональным. Поэтому, думается, в рамках процесса развития института досудебного соглашения о сотрудничестве необходимо поднять вопрос о внедрении условий, касающихся процесса организации ресоциализации, в частности.
Причем в настоящее время в рамках отечественного уголовно-правового поля обнаруживаются труды, указывающие на актуальность вопроса развития ресоциализации. Так, в частности, в монографии под редакцией доктора юридических наук, профессора Т.В. Кленовой, со ссылкой на М.С. Рыбака, под ресоциализацией понимается целенаправленный процесс перерождения преступника в законопослушного человека (гражданина) [6, с. 130].
В той же монографии приводятся статистические данные относительно реализации планов на первые дни после освобождения со стороны осужденных, отбывших уголовное наказание и освобожденных от него. Так, после освобождения 85,1 % респондентов планировали встретиться с семьей, но 8,1 % это реализовать не удалось, 69,8 % респондентов планировали встретиться с друзьями, но 8,2 % это реализовать не удалось, 65,5 % респондентов планировали встретиться с супругом, но 11,1 % это реализовать не удалось, 84,6 % респондентов планировали получить документы, но 8,5 % это реализовать не удалось, 74,7 % респондентов планировали посетить врача, но 9,9 % это реализовать не удалось [6, с. 190].
Таким образом, около 10 % респондентов по каждой из указанных выше социально значимых ситуаций испытывают трудности. При этом 14,9 % даже не планировали встретиться с семьей, 30,1 % – встретиться с друзьями, 34,7 % – встретиться с супругом, 21,1 % – получить документы, 29,6 % – посетить врача, что может свидетельствовать, вероятно, лишь о весьма высоком уровне посткриминальной социальной изоляции.
При этом сегодня на территории России осуществляет деятельность целый ряд организаций, оказывающих помощь осужденным. Однако такие организации, как правило, являются частными, соответственно, возможности их представителей весьма ограничены ресурсами, которые несравнимы с ресурсами государственными. Организация же процесса ресоциализации со стороны государства на сегодняшний день не представляет каких-либо состоявшихся механизмов, но необходимость в такой организации усматривается.
Конечно, о принудительной ресоциализации рассуждать, думается, нерационально, поэтому важно располагать механизмом, который бы определял потенциальных объектов ресоциализации.
Так, начать процесс ресоциализации возможно в рамках института досудебного соглашения о сотрудничестве. Обвиняемый, который изъявил формальное желание исправиться, объективно заслуживает помощи со стороны государства в ресоциализации, возврате своих социальных позиций, в буквальном исправлении. При этом обязанность по оказанию помощи осужденному, заключившему досудебное соглашение о сотрудничестве, может быть возложена на Федеральную службу исполнения наказаний Российской Федерации, а контроль за оказанием такой помощи – на органы прокуратуры.
Причем ресоциализация может предусматривать не только удобные для осужденного сценарии жизнедеятельности. Оплачиваемым трудом может быть, например, и агитационная работа среди обвиняемых и осужденных лиц, которые не изъявили (пока) желание сотрудничать с государством и обществом, через чтение лекций об антисоциальной роли как «блатной романти- ки», так и преступной деятельности. Субъект сотрудничества должен осознавать выгоду такого сотрудничества, которая должна представляться ему не только сиюминутной (в рамках конкретного уголовного дела), но и перспективной, только тогда, как минимум, осужденный будет задумываться о рациональности совершения очередного преступления.
Важно воспринимать уголовно-правовое поле и общество целиком, как единую систему, невозможно изолировать даже пожизненно осужденных от общества так, чтобы те на него не оказывали никакого влияния. Только об «Ангарском маньяке» Михаиле Викторовиче Попкове в открытом доступе обнаруживается несколько интервью (видеосюжетов) и несколько десятков журналистских статей…
Ресоциализация видится единственно верным этапом после осуждения обвиняемого (завершения расследования уголовного дела) в рамках становления уголовно-правовой политики государства. Но, быть может, необходимо начать не со столь громкого лозунга о перерождении преступника, который был представлен в настоящей статье, а с осознания нужды у субъекта в причислении себя к той или иной субкультуре. Может ли общество предложить осужденному что-либо лучшее, чем возврат в организованное преступное сообщество?
Список литературы Ресоциализация субъекта преступления как условие досудебного соглашения о сотрудничестве
- Генеральная прокуратура Российской Федерации: Состояние преступности в России. Главное управление правовой статистики и информационных технологий: сайт [Электронный ресурс]. URL: http://crimestat.ru/analytics.
- За рекордную взятку в 650 млн рублей предприниматель получил пять лет строгого режима // BFM.RU: сайт [Электронный ресурс]. URL: https://www.bfm.ru/news/496862.
- Банкир выполнил условия сделки [Электронный ресурс]. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5367506.
- В Петербурге суд вынес приговор начальнику таможенного поста по делу о взятке в 1,8 млн рублей // Фонтанка.ру: сайт [Электронный ресурс]. URL: https://www.fontanka.ru/2022/08/09/71555258/.
- Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://cdep.ru.
- Ресоциализация и реальное включение в гражданское общество осужденных: монография / под ред. д-ра юрид. наук, проф. Т.В. Кленовой. М.: Юрлитинформ, 2019. С. 130.