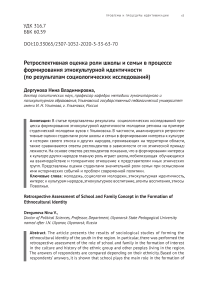Ретроспективная оценка роли школы и семьи в процессе формирования этнокультурной идентичности (по результатам социологических исследований)
Автор: Дергунова Нина Владимировна
Журнал: Поволжский педагогический поиск @journal-ppp-ulspu
Рубрика: Проблемы и процедуры идентификации
Статья в выпуске: 3 (33), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье представлены результаты социологических исследований процесса формирования этнокультурной идентичности молодежи региона на примере студенческой молодежи вузов г. Ульяновска. В частности, анализируются ретроспективные оценки студентами роли школы и семьи в формировании интереса к культуре и истории своего этноса и других народов, проживающих на территории области, также сравниваются ответы респондентов в зависимости от их этнической принадлежности. На основе ответов респондентов показано, что в формировании интереса к культуре других народов главную роль играет школа, мобилизующая обучающихся на взаимодействие и толерантное отношение к представителям иных этнических групп. Представлены оценки студентами значительной роли семьи при осмыслении ими исторических событий и проблем современной политики.
Молодежь, социология молодежи, этнокультурная идентичность, интерес к культурам народов, этнокультурное воспитание, агенты воспитания, этносы поволжья
Короткий адрес: https://sciup.org/142226349
IDR: 142226349 | УДК: 316.7 | DOI: 10.33065/2307-1052-2020-3-33-63-70
Текст научной статьи Ретроспективная оценка роли школы и семьи в процессе формирования этнокультурной идентичности (по результатам социологических исследований)
Процесс формирования этнокультурной идентичности происходит в условиях либерального по характеру понимания молодежью своих прав и свобод, изменения отношения к патриотизму, гражданственности, и ведет к свободе этнокультурной идентификации и толерантности, возникновению новых форм сохранения и воспроизводства этнокультурной идентичности. Сложность формирования этнокультурной и общегражданской идентичности студенческой молодежи связана со свободой коммуникации и перемещения, трудовой и образовательной миграцией, процессами глобализации современной жизни [Гражданская, этническая и религиозная идентичность 2013; Дробижева 2010; Дробижева.2014; Пасовец, Кадничанская, Галкина 2017; Российское студенчество 2014; Сайганова 2013; Тучина 2014; Шуклинова 2009; Ядов 1995]. Указанное обусловливает актуальность исследования степени сформированно-сти этнокультурной идентичности ульяновской студенческой молодежи.
Объектом описываемого здесь исследования стали студенты выпускных курсов трех университетов города Ульяновска. Эмпирическую базу исследования составил опрос 439 студентов выпускных курсов трех ульяновских вузов и фокус группа (2016 год). В рамках исследования предлагался ряд вопросов с ретроспективной оценкой роли семьи, школы, друзей в процессе формирования этнокультурной и гражданской идентичностей.
Что касается выпускников ульяновских вузов, то первый опыт самостоятельной жизни, обучение в вузе, включение в общественно-политические процессы – создают условия как для упрочения сложившейся в детстве этнокультурной самоидентификации и гражданско-государственной идентичности, так и для их трансформации. Происходит развитие поведенческого компонента этнокультурной идентичности, переход к определенным видам деятельности по ее сохранению и воспроизводству в поликультурных обществах, в том числе и при выборе места учебы или проживания.
Были сформулированы следующие задачи исследования:
-
- определить роль различных агентов социализации в процессе формирования этнокультурной идентичности;
-
- исследовать влияние этнической принадлежности на отношение к истории и культуре народов России.
Для исследования уровня сформированности этнокультурной идентичности были использованы параметры трех уровней формирования и критерии формирования трех основных компонентов любого типа социокультурной идентичности. Условно выделяют три уровня сформированности: пороговый, средний, глубинный [Шуклинова 2009].
Поверхностный (пороговый), самый неглубокий уровень. Человек осуществляет процесс социокультурной, гражданской идентификации в результате работы только когнитивных элементов: идентификация по формальным признакам (государство, место проживания, гражданство, этническая принадлежность), отсутствие эмоционально-чувственного элемента в осознании своей идентичности. То есть когнитивный компонент идентификации личности сформировался, а социальные действия нет.
На среднем уровне сформированной идентификации уже подключается эмоциональный слой, работают психические механизмы человека. Этот уровень более глубокий, чем первый, человек считает себя представителем конкретной нации, потому что ощущает неразрывную связь со своей страной, народом, культурой.
На глубинном уровне идентификации человек сливается с национальными (государственными) и культурными ценностями, формируется патриотизм как сложный комплекс волевых, чувственных, эмоциональных переживаний.
В рамках исследования одним из первых вопросов в изучении роли различных агентов социализации стал вопрос о наличии интереса к истории и культуре своего и других народов.
Опрос показал, что чуть больше 40% респондентов интересуются культурой и историей своего народа «постоянно», и столько же - «при необходимости» (написание реферата, организованная встреча и др. формы организованной внешней мотивации). Каждому седьмому респонденту не интересна история и культура ни своего, ни других народов, проживающих постоянно в регионе. (Табл. 1).
Таблица 1. В Ульяновской области проживает несколько этносов, Вы интересуетесь историей и культурой представителей данных народов?, %
|
Да |
При необходимости |
Нет, не интересно |
Затрудняюсь ответить |
|
|
Только своего этноса |
41 |
42 |
14 |
3 |
|
Исторически проживающих в Ульяновской области (русские, татары, чуваши, мордва) |
19 |
56 |
22 |
2 |
|
Приехавших представителей других этносов (азербайджанцы, украинцы, немцы и др.) |
11 |
43 |
40 |
6 |
Русские респонденты чуть меньше, чем студенты – татары, мордва и чуваши Ульяновской области, интересуются культурой и историей своего народа.
В совокупности историей/ культурой исторически проживающих народов региона интересуется 75% респондентов, но глубина интереса значительно (в два раза) ниже, чем в отношении своего этноса. «Постоянный» интерес имеют на 22% меньше, чем к своему этносу, и на 14% меньше проявляется интерес «при необходимости». 22% «никогда» не интересуются историей и культурой проживающих в области этносов.
Еще меньше молодежь интересует история и культура этносов, приехавших на территорию области: 11% интересуется «постоянно», 43% - «при необходимости». 40% респондентов вообще не интересуется, 6% - затруднились ответить. Таким образом, в отношении приезжих этносов каждый второй респондент вообще не проявляет никакого интереса (46% в сумме, так как 40% не интересуются, 6% затруднились ответить) к их истории и культуре.
Интерес к истории и культуре своего народа «постоянно» (твердое «да») проявляют больше всего: русские и татары (42,8 и 43,9% соответственно). «Нет, не интересно» – данный ответ больше всех выбрали чуваши – 15,8%.
Интерес к истории и культуре других народов, традиционно живущих в регионе: «постоянно» больше всего проявляют чуваши – 43,2%; «при необходимости»: больше всего мордва – 70%. Не проявляют интереса больше всего русские - 22,2%.
Интерес к истории и культуре приехавших в регион этнических групп «постоянно» проявляют больше всего чуваши - 21%; «при необходимости» – татары и мордва – по 50%. «Не интересно» - больше всего чувашам и русским (44,7 и 42,5% соответственно).
Таким образом, русские интересуются больше всего историей и культурой своего народа, и в наименьшей степени (по сравнению с другими этносами региона) историей и культурой других народов, особенно традиционно не проживавших в регионе. Более всего «по необходимости» (по внешней причине) проявляют интерес и к своему, и к другим народам мордва.
Татары проявляют значительный интерес к своей культуре, и по внешним причинам (при необходимости) – к культуре и истории приезжающих в регион других народов. Среди чувашей наблюдается поляризация интереса: меньше, чем другие проявляют интерес к истории своего народа, но больше, чем другие - к коренным народам региона (русские, татары, мордва). Культура приезжающих в регион народов их мало интересует.
Исследование показало, что молодое поколение весьма индифферентно относится к этнической принадлежности окружающих его людей. Чуть больше трети респондентов (37%) ответили, что обращают внимание на этническую принадлежность людей вокруг себя («интересно» - 20%, «все-таки это важно» - 9% и потому что «они другие» – 8%). (Табл. 2).
Таблица 2. Обращаете ли Вы внимание на национальную принадлежность членов своего окружения (друзей, студенческой группы, рабочего коллектива, попутчиков и т.д.) при первом знакомстве?, %
|
Да, меня интересует другая культура |
20 |
|
Да, т.к. они другие, не такие как я |
8 |
|
Нет, меня больше интересуют их человеческие качества, а не национальность |
62 |
|
Все-таки это важно |
9 |
|
Другое |
1 |
Выявились незначительные гендерные различия в проявлении интереса к этнической принадлежности окружающих (мужчины чаще на 5%, чем женщины обращают внимание на этническую принадлежность).
Выпускники сельских школ больше обратили бы внимание на национальную принадлежность своего окружения, так как их интересует культура других народов на 12% больше, чем городских. На 18% больше сельских выпускников с удовольствием пошли бы на национальные праздники.
В ситуациях различного рода общения по совокупности ответов больше всего обращают внимание на этническую принадлежность людей вокруг себя мордва - 60% и русские – почти 38% по соответствующим причинам:
Интерес к другой культуре проявляют больше всего представители мордвы - 50%
«Они другие» – больше всего важно для татар – 13,6%
«Все-таки это важно» – выбрали больше русские.
Таким образом, по совокупности двух ответов татары больше всех обращают внимание на этнокультурные различия, но не закрыты от других этнических групп. Если гипотетически представить, что нашего респондента приглашают на национальный праздник другого народа (более тесное соприкосновение с другим этносом, чем однокурсники, попутчики и т.д.), то половина респондентов ответили, что с удовольствием примут приглашение и посетят мероприятие, потому что им «интересно». (Табл. 3). 15% ответили, что пойдут «за компанию», и 6% – что пойдут «потому, что им все равно, где и с кем случается повеселиться». В любом случае, в сумме, более 70% не откажутся от возможности познакомиться с культурой другого народа. Только 23% опрошенных ответили, что не примут приглашения, так как: 1) не видят смысла в своем участии (16%) и 2) боятся показаться чужими (в культурном отношении) – еще 7%. Представляется, что только последние 7% респондентов продемонстрировали тенденцию к изолированности, замкнутости, значительной культурной дистанции в отношении других этнических групп.
Таблица 3. Если бы Вас пригласили на национальный, религиозный праздник другого народа, чтобы Вы сделали?, %
|
пойду с удовольствием, мне это интересно |
51 |
|
не пойду, не вижу смысла в посещении данных мероприятий |
16 |
|
пойду, т.к. идут все мои друзья |
15 |
|
не пойду, боюсь оказаться там «чужим» |
7 |
|
пойду, я люблю веселиться по любому поводу |
6 |
|
Другое |
6 |
Глубокий уровень этнокультурной идентичности в отличие от этнической принадлежности проявляется в желании большего общения с представителями своего этноса. Русские, татары и чуваши совпадающе (73 – 75%) ответили, что никогда не были членами общины, объединяющей людей по этническим признакам. Но каждый четвертый респондент не согласился с данным утверждением.
Таким образом, у большинства респондентов (от 50% до 80 % по совокупности параметров) проявилась «нормальная (позитивная этническая) идентичность, характеризующаяся положительным образом своего народа в сочетании с толерантными установками на общение с другими народами» [Козлова 2004]. Однако 20 – 25% респондентов продемонстрировали этноцентрическую идентичность, акцентуированную на значимость своей этничности.
Интерес к культуре своего и других народов в поведенческом аспекте проявляется через посещение, участие в национальных мероприятиях. У респондентов спрашивали, как часто они посещали праздничные мероприятия других народов, кто был инициатором участия, были ли эти посещения организованы школой или родителями, принимались ли решения об участии вместе с кем-то (родители, друзья) или же самостоятельно.
Праздники других народов «часто» посещали всего от 4 до 11% респондентов, но происходило это чаще всего в школе (11%) и за компанию с друзьями (9%) или с родителями (7%).Самостоятельно часто посещают праздники только 4%. (Табл. 4).
Таблица 4. Как часто посещали Вы праздники других народов?, %
|
Часто |
Иногда |
Редко |
Никогда |
|
|
В школе |
11 |
23 |
21 |
45 |
|
С родителями |
7 |
16 |
23 |
55 |
|
С друзьями |
9 |
20 |
24 |
47 |
|
Один |
4 |
8 |
13 |
76 |
«Иногда» посещают праздники других народов также чаще в школе (организованное мобилизационное посещение) – 23%, с друзьями – 20%, с родителями – 16%.
Собственное решение посетить праздник принимало только 8%.
«Редко» принимали участие при организации посещения – 21– 24% (школа, родители, друзья), и самостоятельно редко участвовали – 13%.
«Никогда» не посещали праздники даже в школе – 45%, с друзьями – 47%, с родителями – 55%, и самостоятельно принимали решение не посещать праздники – 76%.
Таким образом, самостоятельно подавляющее большинство респондентов не желают посещать чужие праздники (редко – 13%, никогда –76%). Основную роль в знакомстве с культурой других народов играет школа, она выступает главным организатором межэтнического взаимодействия по сравнению с ролью семьи и интересами самих респондентов и их ближайшего окружения.
Выходцы из сельских школ чаще, чем из городских, обучаясь в школе, посещали праздники других народов. С родителями студенты из сельских школ также чаще посещали национальные мероприятия. С друзьями – та же тенденция, только еще более выражена.
По этническому признаку праздники других народов, обучаясь в школе:
– «часто» посещали: чуваши (37,8%), татары (18,6%), мордва (10,0%). Меньше всех – русские (7,3%),
– «иногда»: татары (34,9%), русские – 21,8%; чуваши – 16,2% мордва – 10%,
– «редко» – русские (21,5%), татары – 18,6%, чуваши – 16,2%, мордва – 10%,
– «никогда» – мордва (70%), русские – 49,5%, чуваши – 29,7%, татары – 27,9%.
Подавляющее большинство студентов, представителей мордвы, и каждый второй русский даже в школе не посещали национальные праздники других народов. При сравнении ответов студентов разной этнической принадлежности выявилось, что с родителями:
– «часто» посещали праздники других народов: татары (20,9%), чуваши (15,8%); «Иногда» – чуваши (23,7%), мордва (20%), татары (18,6%);
– «редко» – татары (27,9%), русские – 22,9%,
– «никогда» – русские и мордва по 60%, чуваши и татары по 39 и 32% соответственно.
Таким образом, наименьший интерес к национальным праздникам других народов проявляют русские родители, ни реже других водят своих детей на такие мероприятия.
С друзьями посещали национальные праздники других народов:
– «часто» – чуваши (26,3%) и татары (20,9%);
– «иногда» – татары (25,6%) и русские (20,8%);
– «редко» – мордва (50%), татары и русские – по 25,6 и 23,9% соответственно;
– «никогда» – русские и чуваши по 50%, мордва – 40%.
Таким образом, наиболее оптимальный результат у татар: только каждый четвертый никогда не посещал указанные мероприятия. Среди русских и мордвы проявились наименее заинтересованные позиции: более 73% русских «никогда» или «редко», еще 21% – «иногда» посещали праздники других народов с друзьями, а среди мордвы 90% – «редко» или «никогда».
Самостоятельно праздниками других народов интересуются и посещают больше всего мордва и чуваши, менее всего – русские и татары.
Семья, родители достаточно активно участвуют в формировании этнокультурной и гражданско-государственной идентичности. По ответам респондентов видно как в семье обсуждаются история, культура, текущая жизнь страны. На вопрос «Обсуждали ли с Вами родители историю России, важные события?» были получены следующие ответы. (Табл.5).
Таблица 5. Обсуждали ли с Вами родители историю России, важные события?, %
|
Тематика бесед |
Постоянно |
Иногда |
Никогда |
|
эффективность управления страной, руководство страны |
28 |
58 |
14 |
|
военные победы и поражения |
21 |
64 |
15 |
|
переломные моменты в истории (революции, реформы, восстания) |
16 |
61 |
23 |
|
личности в истории (от царей до современных президентов) |
22 |
61 |
17 |
|
династии во власти |
11 |
47 |
42 |
|
исторические и культурные памятники |
14 |
59 |
27 |
По совокупности больше всего обсуждается в семье («постоянно» и «иногда»): эффективность управления – 86%; военные действия – 85%; личности в истории России – 83%; переломные моменты в истории страны – 77%; исторические и культурные памятники – 73%; династии в истории страны – 58%.
Таким образом, на первом месте при обсуждении в кругу семьи стоят вопросы деятельности государства по управлению страной и военные действия. На втором месте – вопросы исторического развития страны: исторические личности, переломные моменты, исторические и культурные памятники. Военные победы и поражения России студенты, окончившие сельские школы, чаще обсуждают «постоянно» с родителями, чем городские на 6,7%; на 3,5% чаще – «иногда». Переломные моменты в истории страны студенты, окончившие сельские школы, также чаще обсуждают с родителями, чем городские на 13% (постоянно). При обсуждении с родителями вопросов управления страной не выявлено существенных различий.
Роль личности в истории России также чаще «постоянно» с родителями обсуждали студенты, окончившие сельские школы (на 7%). Исторические и культурные памятники страны сельские выпускники также чаще, чем городские, обсуждали с родителями («часто» – на 5% больше, «иногда» – на 7% больше). С родителями различные проблемы в истории страны юноши «постоянно» обсуждали чаще, чем девушки на 7%.
Таким образом, основную роль в знакомстве с культурой других народов играет школа, она выступает главным организатором межэтнического взаимодействия. Наименьший интерес проявляют русские родители к национальным праздникам других народов и не посещают их со своими детьми. У подавляющего числа респондентов ярко выражен интерес, прежде всего, к истории и культуре своего народа (83%), который сопряжен с позитивными чувствами в отношении своего народа и своей страны. Родители весьма активно участвуют в формировании этнокультурной и государственно-гражданской идентичности, прежде всего, при обсуждении проблемных вопросов истории, культуры и политического развития страны. В семьях сельских жителей роль родителей даже несколько выше, чем в городских.
Список литературы Ретроспективная оценка роли школы и семьи в процессе формирования этнокультурной идентичности (по результатам социологических исследований)
- Гражданская, этническая и религиозная идентичность: вчера, сегодня, завтра. М: РОССПЭН, 2013. 485 с.
- Дробижева Л. М. Идентичность и этнические установки русских в своей и иноэтнической среде. // Социс. 2010. № 12. С. 49 - 58.
- Дробижева Л. М. Государственно-гражданская идентичность и межэтническое согласие: теоретические и социально-практические проблемы. // Власть.2014. № 11. С.12 - 16.
- Козлова М. А. Взаимосвязь этнической идентичности, толерантности и личностной зрелости (на примере молодежных групп обских угров и русских). Дисс. … канд. ист. наук. М., 2004.
- Пасовец Ю. М., Кадничанская М. И., Галкина Е. П. Молодежь российских регионов. Глава 2.2. Ульяновская молодежь. Базовые ценности и отношение к получаемому образованию у молодежи Ульяновского региона. Курск: Изд-во Курского гос. ун-та, 2017. С. 84 - 101.
- Российское студенчество: идентичность, жизненные стратегии и гражданский потенциал. / Ред. Тишков В. А., Бараш Р. Э., Степанов В. В. Москва: ИЭА РАН, 2014. 342 с.
- Сайганова Е. В. Политическая социализация молодежи: основные агенты и каналы формирования. // Известия Саратовского университета. Серия: Социология. Политология. 2013. Т. 13. Вып. 4. С. 36.
- Тучина О. Р. Этнокультурная идентичность: субъектно-бытийный подход. //SOCIOSPHERE. 2014. № 1. С. 146 - 149
- Шуклинова М. В. Кризис идентичности как проблема национально-культурного самоопределения индивида. // Культурология. 2009. № 4. [Электронный ресурс]. URL: http://www.zpu-journal.ru/e- zpu/2009/4/Shuklinova/ (дата обращения 20.06.2020).
- Ядов В. А. Социальные и социально-психологические механизмы формирования социальной идентичности личности. // Мир России. 1995. № 3 - 4. С. 158 - 181