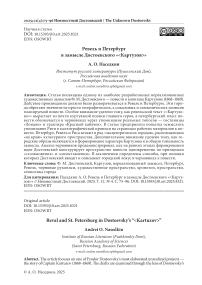Ревель и Петербург в замысле Достоевского «Картузов»
Автор: А.О. Наседкин
Журнал: Неизвестный Достоевский @unknown-dostoevsky
Статья в выпуске: 4 т.12, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена одному из наиболее разработанных нереализованных художественных замыслов Ф. М. Достоевского — повести о капитане Картузове (1868–1869). Действие произведения должно было разворачиваться в Ревеле и Петербурге. Эти города обретают значение не просто географических, а смысловых и символических полюсов планируемой повести. Особое внимание уделено тому, как ревельский текст «Картузова» вырастает из почти куртуазной поэзии главного героя, а петербургский пласт повести обозначается в черновиках через упоминание реальных топосов — гостиницы «Лондон» и трактира «Красный кабачок». В статье предпринята попытка осмыслить упоминание Риги в каллиграфической прописи на страницах рабочих материалов к повести. Петербург, Ревель и Рига встают в ряд «эксцентрических городов», расположенных «на краю» культурного пространства. Дополнительное внимание уделено тому, как городские образы включаются в формирование характера Картузова и в общую тональность замысла. Анализ черновиков продемонстрировал, как на ранних этапах формирования идеи Достоевский конструирует пространство повести одновременно по принципам «столкновения» и «сопоставления». В заключении определены способы, при помощи которых Достоевский вводит и описывает городской локус в черновиках к повести.
Ф. М. Достоевский, Картузов, нереализованный замысел, Петербург, Ревель, черновые рукописи, художественное пространство, хронотоп, пространство, семиотика города
Короткий адрес: https://sciup.org/147252505
IDR: 147252505 | DOI: 10.15393/j10.art.2025.8321
Текст научной статьи Ревель и Петербург в замысле Достоевского «Картузов»
В о время самого продолжительного своего пребывания в Европе (1867–1871), между работой над романами «Идиот» и «Бесы», Достоевский обдумывает план повести о капитане Картузове (1868–1869). Это один из самых разработанных нереализованных художественных замыслов писателя. При этом рабочие материалы к «<Картузову>» остаются лакуной в исследовании творчества Достоевского. Первая публикация черновиков относится к 1935 г. — они вошли в издание записных тетрадей Достоевского [Коншина]. Эти материалы сопровождались комментарием, cоставленным Е. Н. Коншиной в соавторстве с Н. И. Игнатовой. Через четыре года после их публикации, в 1939 г., в журнале «Русские записки» была напечатана статья «"Повесть о капитане Картузове" Достоевского» К. В. Мочульского, в которой была предпринята попытка выстроить фрагменты рабочих записей Достоевского в сюжетной последовательности [Мочульский]. В Полном собрании сочинений в 30 томах (1972–1990) публикация черновиков к «<Карту-зову>» [Д30; т. 11: 31–57] сопровождалась статьей и комментариями [Д30; т. 12: 322–326]. Современная научная литература, посвященная данному замыслу, ограничивается статьями Б. Н. Тихомирова «Метаморфозы одного литературного имени…» [Тихомиров, 2012] и «Басня капитана Картузо-ва / Лебядкина "Жил на свете таракан…" (контексты интерпретации)» [Тихомиров, 2017а], а также статьей М. В. Загидуллиной из словаря-справочника «Достоевский: сочинения, письма, документы» [Загидуллина]. Вышеперечисленные работы, несмотря на их безусловную значимость для дальнейшего исследования повести, не исчерпывают все возможные направления, в которых можно рассматривать этот замысел. На данный момент ведется работа над дополнением комментариев к «<Картузову>» в 12-м томе нового Полного собрания сочинений и писем Достоевского в 35 томах.
В черновиках к «<Картузову>» Достоевский точно и эксплицитно обрисовывает художественное пространство повести. Оно представлено двумя городами, в которых разворачивается действие — Ревелем и Петербургом. Об этом свидетельствует еще первый план, разработанный писателем: «Ревель, воды, Картузов пленен амазонкой»; «Октябрь. Приезд Картузова в Петербург» [Д35; т. 11: 97–98]. Понятия пространства и хронотопа в контексте творчества Достоевского осмысляют в своих трудах многие исследователи: М. М. Бахтин, В. Н. Топоров, В. Н. Захаров, А. Н. Хоц, А. В. Денисова, И. В. Дергачева и др. Бахтин писал: «Основной категорией художественного в ѝ дения Достоевского было не становление, а сосуществование и взаимодействие. Он видел и мыслил свой мир по преимуществу в пространстве , а не во времени» (курсив мой. — А. Н. ) [Бахтин: 36]. Схожие категории поэтики пространства у Достоевского выделял А. Н. Хоц: «Сo-существование, со-поставление, столкновение, лежащие в самой основе кризисной поэтики писателя, — суть феномены пространственного бытования» [Хоц: 51]. Действительно, даже на уровне рабочих материалов Достоевский руководствуется теми же принципами при построении художественного пространства: оно тесно связано с феноменами «столкновения», «сосуществования» и «взаимодействия».
Рассмотрим подробнее эти пространственные характеристики.
-
I.Ревель
Ревель — бывшее название города Таллин, территория которого с 1721 по 1917 г. входила в состав Российской империи [Laur, Tõnis, Mäesalu: 329–331], [Raun: 269]. Судьба Достоевского была довольно тесно связана с этим городом. В апреле 1838 г. в Ревельскую инженерную команду перевели брата писателя, М. М. Достоевского [Летопись: 49]. Известно, что в июле 1843 г. Ф. М. Достоевский впервые приехал в Ревель, чтобы навестить брата [Летопись: 84]. С той же целью писатель посещал город еще в 1845 и 1846 гг. [Летопись: 98, 117]. Ревель постоянно фигурировал в переписке Достоевского середины сороковых годов [Д30; т. 28, кн. 1: 49, 62, 74, 77, 85, 91, 109, 110 и др.]. Осенью 1847 г. М. М. Достоевский уволился со службы и вернулся в Петербург [Летопись: 137]. С Ревелем связаны и некоторые эпизоды литературной жизни писателя. Именно там молодой Достоевский работал над своими ранними текстами: в 1845 г. — над «Двойником», а в 1846 г. — над «Господином Прохарчиным» [Летопись: 99, 119]. В 1846 г. семья брата Михаила принимала у себя в Ревеле жену Белинского [Летопись: 115–119]. Неслучайно этот город будет ассоциироваться в сознании писателя с именем критика, что также отразится в одной из черновых записей к повести «<Картузов>»: «(Белинск<ий>, Тургенев, Герцен в Ревеле)» [Д35; т. 11: 137].
На первый взгляд, повесть о капитане Картузове построена по принципу контраста или «столкновения». Одно из вероятных названий повести — «Капитан Картузов» — заключает в себе антитезу: офицерское звание и пародийный характер имени, восходящего, по одной из версий, «к циклу эпиграмм кн. П. А. Вяземского на шишковиста П. И. Кутузова» [Серман: 598]. Ревель — по сути своей европейский город, принадлежавший в XIX в. Российской империи, — является наглядным воплощением этой же двойственности. Мы встречаем не так много записей о Ревеле на страницах черновиков к нереализованной повести, но все они содержат конкретные характеристики — это крупные мазки, при помощи которых Достоевский обрисовывает город:
«Ревель город приморский, в заливе, туда съезжаются купаться и т. д.»;
« Ревель . Город немецкий и имеющий претензию быть рыцарским…»; «Ревель, Общество…» [Д35; т. 11: 117, 124].
Ревель становится органичным местом для появления комического героя, капитана Картузова. Приведем полностью одну из вышеупомянутых характеристик города:
« Ревель . Город немецкий и имеющий претензию быть рыцарским, чтò, почему-то, очень смешно (хотя он и действительно был рыцарским)» [Д35; т. 11: 117].
Статус европейского города в данном случае поддерживался тем, что политическая, экономическая и культурная власть в Остзейских губерниях находилась в руках местного немецкого дворянства и бюргерства [Геополитическая карта: 242–243]. Отсюда и «претензия быть рыцарским», которую с Ревелем разделяет и сам капитан Картузов. Город и герой оказываются родственными в этом стремлении. Это отмечал еще К. В. Мочульский: «Для "смешного рыцаря" Картузова найдено достойное место действия: "смешной" рыцарский город Ревель» [Мочульский: 79]. В указанном выше фрагменте черновика ироничность передана в конфликте выбираемых автором временных форм: « имеющий претензию быть рыцарским» (настоящее время) и «действительно был рыцарским» (время прошедшее). Другими словами, писатель указывает на то, что рыцарство в Ревеле XIX в. — черта атавистическая.
Одна из особенностей поэтики Достоевского, отмечаемая исследователями, состоит в необыкновенно тесной связи пространства с героем (см.: [Хоц: 52]).
На страницах черновиков всякий раз подчеркивается нелепость Кар-тузова:
«Самый неловкий человек, которого я только знаю. Вообще вся повесть могла назваться: Рассказ о неловком человеке » [Д35; т. 11: 97].
Альтернативное название повести довольно точно отражает ее содержание: капитан Картузов (комический «Дон Кихот», появляющийся в творчестве Достоевского после «Дон Кихота» трагического, князя Мышкина) влюбляется в свою «Дульсинею», амазонку Екатерину Григорьевну Кармазину (в одном из стихотворений Картузова героиня названа Елизаветой), приехавшую вместе с женихом, графом, в Ревель; Картузов сочиняет своей возлюбленной стихи (позже «унаследованные» капитаном Лебядкиным в «Бесах»), вызывает графа на дуэль (которая так и не состоялась), дает ему пощечину, после которой Картузова арестовывают и по настоянию графа помещают в сумасшедший дом «на испытания»; в сумасшедшем доме Картузов сочиняет свою знаменитую басню «Жил на свете таракан…» и умирает. Эта история рассказана от лица друга и конфидента Картузова, который своей отстраненностью, своим неучастием в повествуемых событиях напоминает Хроникера из будущих «Бесов».
«Претензия» Картузова на рыцарство выражена не только на сюжетном, но и на литературном уровне. Ю. М. Лотман определял городское пространство как «сложный семиотический механизм, генератор культуры», который представляет собой соединение «текстов и кодов, разноустроенных и гетерогенных, принадлежащих разным языкам и разным уровням» [Лотман: 282]. Обратим внимание на еще одно важное замечание Лотмана: «Город — механизм, постоянно заново рождающий свое прошлое, которое получает возможность сополагаться с настоящим как бы синхронно. В этом отношении город, как и культура, — механизм, противостоящий времени» [Лотман: 282–283]. Это наблюдение применимо и к замыслу Достоевского: нелепая поэзия капитана Картузова «взывает» к средневековому прошлому Ревеля.
Как известно, любовь к замужней женщине была одной из частых тем в поэзии трубадуров и миннезингеров. Обратимся, например, к сочинениям Вальтера фон дер Фогельвейде, немецкого поэта и яркого представителя классического миннезанга XII–XIII вв.:
«Влюблен давно, любви служу; Обделен, я счастья жду, По награде я в досаде вновь тоскую; И в досаде по награде я тужу, Глуп и мал, попал в беду
И похвал не жду за песнь такую» 1 .
Для миннезингера любовь — отнюдь не радостное чувство, поскольку эта любовь не может быть разделена, она всегда остается безответной:
«Если б я тропой неразделимой
В песнях, плясках вместе сквозь года Шел, цветы срывая для любимой, С нею связан дружбой навсегда, Осушая вместе хмельный кубок, Поцелуй срывая с алых губок, Мук любви не знал бы я тогда» 2 .
Сочинения Картузова так же непосредственны и прямолинейны. Они исполнены самоуничижения, иронии, страданий по возлюбленной. Очевидно, что Кармазина в поэзии Картузова выступает в роли недосягаемой Прекрасной Дамы (так же называл Кармазину в своей статье Б. Н. Тихомиров [Тихомиров, 2017а: 601]). В стихотворениях героя Достоевского мы усматриваем еще одну важную для куртуазной литературы черту — соединение эротизма и высоких духовных устремлений лирического героя. Отмечено, что куртуазная литература «непросто вписывается в систему христианских ценностей», «подчеркнутому спиритуализму церковного мировоззрения с его резким осуждением преходящей земной радости» противопоставляется «эстетическое оправдание и прославление плоти», и в связи «с этой новой, светской, религией вырастает новая этика»: «в облике дамы куртуазный влюбленный поклоняется вновь открытым ценностям — совершенной человеческой личности, утверждению земной радости» (см.: [Смолиц-кая: 254], [Шор: 761]). Проследим это на примере одного из картузовских сочинений:
«О, как мила она,
Елизавета Кармазина, Когда с знакомым на седле летает, А локон ее с ветрами играет, Или когда в церкви вместе с матерью падает ниц, И зрится лишь румянец благоговейных лиц.
Тогда молюсь и трепещу и наслаждений желаю
И ей вслед с матерью слезу мою посылаю» [Д35; т. 11: 103].
Здесь проявляется характерное для всего замысла соединение, казалось бы, несовместимых образов и мотивов: в сакральном пространстве церкви лирический герой сосредоточен на «румянце благоговейных лиц», а во время молитвы он жаждет наслаждений — вероятно, эротического характера. В духе куртуазной поэзии герой Достоевского возвышает телесное и придает своим желаниям почти религиозный пафос. Об этом же, несколько в ином ключе и уже в отношении Лебядкина, писал В. Ф. Ходасевич: «Поэзия Лебядкина есть искажение поэзии, но лишь в том смысле и в той же мере, как сам он есть трагическое искажение человеческого образа. <…> Трагикомизм Лебядкина — в том, что у него высокое содержание невольно облекается в низкую форму» [Ходасевич: 199].
Параллель между сочинениями Картузова и поэзией миннезингеров неслучайна. Вальтер фон дер Фогельвейде творил в эпоху расцвета западноевропейской рыцарской поэзии, и сама рыцарская тема неоднократно поднималась в сочинениях миннезингеров:
«Прошу, внемлите, госпожа, Есть некий рыцарь — он готов, Душой и телом вам служа, Вам жизнь отдать без дальних слов» 3 .
Рыцарская топика характерна для творчества Достоевского конца 1860-х гг. В романе «Идиот» она была обусловлена первоначальным замыслом описания «положительного прекрасного человека», тесно связанным с образом Дон Кихота, и была подкреплена пушкинскими реминисценциями. Применительно к «Идиоту» о влиянии куртуазной литературы писал И. И. Евлампиев: «Весьма вероятно, что концепцию мистического супружества как резкой религиозной альтернативы ортодоксально-христианскому негативному отношению к женщине и к половой любви Достоевский прежде всего воспринял в той художественной форме, которую ей придали средневековые рыцарские поэты — трубадуры, труверы и миннезингеры. <…> В пользу того, что Достоевский именно из литературы, основанной на идеале "куртуазной" любви, позаимствовал знание о гностической концепции мистического брака, свидетельствует тот факт, что в романе "Идиот" Достоевский характеризует отношения Мышкина и Настасьи Филипповны с помощью истории "рыцаря бедного" на тему стихотворения Пушкина, посвященного как раз средневековой рыцарской любви» [Евлампиев: 32].
В случае с «<Картузовым>» рыцарская тема обозначается выбором места действия повести, а реализована она в почти куртуазной поэзии главного героя, которая как нельзя очевиднее отражает комическую сторону его рыцарства. И, что важнее для нас, именно сочинения Картузова, отсылающие к трубадурам и миннезингерам, превращают Ревель Достоевского в отражение «разноустроенных» «текстов и кодов», о котором писал Лотман. У нас нет прямых свидетельств знакомства Достоевского с куртуазной поэзией, но факт его пребывания в Европе в момент работы над повестью существенно повышает шансы на то, что у писателя был доступ к средневековым памятникам западноевропейской литературы.
Вернемся к еще одной характеристике Ревеля, встречающейся в черновиках к повести: «Ревель, Общество…» [Д35; т. 11: 124]. Упоминание ревельского общества прокомментировано в первом ПСС [Д30; т. 12: 323–324]. Действительно, наиболее говорящим в данном случае оказывается воспоминание А. Е. Ри-зенкампфа о впечатлениях Достоевского, переданное О. Ф. Миллером:
«Пришлось, однако, познакомиться и с ревельским обществом, и оно, по свидетельству д-ра Ризенкампфа, "своим традициональным, кастовым духом, своим непотизмом 4 и ханжеством, своим пиетизмом, разжигаемым фанатическими проповедями тогдашнего модного пастора гернгутера Гуна, своею нетерпимостью особенно в отношении военного элемента", произвело на Достоевского весьма тяжелое впечатление. Оно так и не изгладилось в нем во всю жизнь. Он был тем более поражен, что ожидал встретить в культурном обществе здоровые признаки культуры. "С трудом я мог убедить Федора Михайловича, говорит д-р Ризенкампф, что все это — только местный колорит, свойственный жителям Ревеля… При своей склонности к генерализации, он возымел с тех пор какое-то предубеждение против всего немецкого"»5.
Фигура пастора Гуна оказывается чрезвычайно важной в понимании того, как выглядело ревельское общество во время визита Достоевского в этот город. Важную справку о пасторе приводит в своей статье «Поездки Ф. М. Достоевского в Ревель» А. М. Конечный: «Август-Фердинанд Гун (1807–1871) окончил богословский факультет Дерптского (Тартуского) университета (1826–1829); с 1832 года и до конца жизни был помощником пастора в ревельской церкви Св. Олая. В 30-х годах Гун переходит от рационализма (направление в протестантстве, основанное на критическом изучении священного писания) к пиетизму — проповеди строгого благочестия и религиозного подвижничества в повседневной жизни. Обращение пастора-рационалиста к пиетизму (практически — к гернгутерству), о котором он говорил в местном синоде в 1836 году, было большим событием в религиозной жизни города. Гун, как проповедник и духовный писатель, оказывал огромное влияние на прихожан. К моменту приезда Достоевского Гун выступает как ярый приверженец нового учения и, естественно, является постоянным предметом разговоров местного общества. И хотя у Достоевского не встречается упоминание о Гуне, пастор, несомненно, был известен писателю» [Конечный: 130–131].
Из этой справки становится понятным, что имел в виду Ризенкампф, говоря о «традициональном, кастовом духе», о «непотизме» и «ханжестве» ревельского общества.
Что нам еще известно о круге, к которому был причастен Картузов? На страницах черновиков мы встречаем запись, явно относящуюся к рассказчику, другу Картузова:
«Я случайно принадлежал, или, точнее, не принадлежа, был особенно связан с маленькой кучкой офицеров, по береговым постройкам. Из молодежи было несколько веселых людей; но всех более внимания возбуждал тогда между нами капитан Картузов. Он был вновь определившийся, перешедший из какой-то крепости» [Д35; т. 11: 117–118].
Не можем не отметить косвенную параллель с биографией брата писателя: «маленькая кучка офицеров, по береговым постройкам» — эти детали описания, вполне вероятно, были вдохновлены впечатлениями о Ревельской инженерной команде, в которой служил М. М. Достоевский. В следующей за этой записи подчеркивается разобщенность круга, к которому принадлежал Картузов:
«В клуб. Общей связи между посетителями не было. Не было общего вок-сала» [Д35; т. 11: 118].
Мы еще вернемся к характеристике Ревеля как «города приморского», а пока резюмируем то, каким он предстает перед нами на данный момент: карикатурный «немецкий» город, с «претензией» на рыцарство, внемлющий пиетическим проповедям Августа-Фердинанда Гуна и вдохновляющий «миннезингера» Картузова на стихи к своей «Прекрасной Даме».
II
Петербург
Финал нереализованной повести о капитане Картузове, судя по всему, должен был разворачиваться в Петербурге:
«Октябрь. Приезд Картузова в Петербург. Предложение. Хромая призывает его» [Д35; т. 11: 98].
Хромой здесь называется Кармазина, которая к этому эпизоду повести уже сломала ногу. О случившемся Достоевский не говорит напрямую, но, вероятнее всего, это произошло вследствие падения с лошади, что замечает и Мочульский: «Дуэль так и не состоялась: в тот же день "амазонка" упала с лошади и сломала себе ногу» [Мочульский: 87]. Именно после этого Картузов сочиняет стихотворение «Краса красот сломала член…», которое в измененном виде появится уже за авторством Лебядкина в романе «Бесы» — там оно фигурирует как написанное «по случаю» («В случае, если б она [Лизавета Тушина] сломала ногу» [Д35; т. 10: 230]). В указанном выше стихотворении Картузов делает предложение Кармазиной:
«Краса красот сломала член
И интересней втрое стала, И втрое сделался влюблен Влюбленный и до члена немало.
Позвольте же любовь излить,
Принять извольте предложение,
Чтоб в браке вместе член забыть,
А с оставшимся изведать законное наслаждение»
[Д35; т. 11: 115–116].
В своих черновиках Достоевский отмечает:
«Картузов воспламенен и делает предложение, для этого для тона переезжает в гостиницу "Лондон". Стихи, объяснение с ней » [Д35; т. 11: 102].
Гостиница «Лондон» располагалась в доме Г. Г. Гейденрейха (см. Илл. 1–2 ) — здании, с которого начинается Невский проспект. Там же находились «Английский магазин» и «Немецкая лавка». Картузов неслучайно переезжает в гостиницу «Лондон» «для тона» и объясняет это тем, что «там стоят самые значительные лица» [Д35; т. 11: 110]. Дело в том, в «Лондоне» в разное время останавливались А. Мицкевич (1824) и А. И. Герцен (1839) [Кириков, Кири-кова, Петрова: 16–19].
Достоевский поселяет своего героя в отель с «географическим» названием, которое прекрасно вписывается в рыцарскую линию, выстраиваемую в повести о Картузове. Англия сыграла важнейшую роль в развитии жанра рыцарского романа. М. П. Алексеев указывает, что «англо-нормандские и французские поэты в конце XII — начале XIII в.» перерабатывали кельтские сказания в «куртуазно-рыцарском духе»: именно так появились «стихотворные рыцарские романы артуровского цикла, впитавшие в себя ряд сказаний, первоначально не имевших к нему никакого отношения. Англонормандские и французские поэты превратили двор короля Артура в средоточие идеальной рыцарской культуры и сочетали с ним ряд развившихся, но первоначально обособленных преданий» [Алексеев: 107]. Таким образом, упоминание гостиницы «Лондон» в черновиках к «<Картузову>» расширяет как географическое, так и символическое пространство повести.
Еще один петербургский топоним, фигурирующий в набросках к неосуществленному произведению Достоевского — «Красный кабачок» (см. Илл. 3 ).
«Красный кабачок» — известный еще со времен Петра I трактир, расположенный на Петергофской дороге [Богданов]. Название трактира трижды фигурирует в черновиках к «<Картузову>»:
«А есть там под Петербургом "Красный кабачок", так там все генералы и самые значительные из камергеров собираются»;
«NB. Наменял золота перед отъездом в "Красный кабачок"»;
«Поездка в "Красный кабачок", ничего не нашел. Драка с половым» [Д35; т. 11: 110].
«Красный кабачок» упоминается также в поэме М. Ю. Лермонтова «Монго»:
«Вдоль по дороге в Петергоф, <…>
Там есть трактир… и он от века
Зовется Красным Кабачком… » [Лермонтов: 341].


Илл. 1–2. И. И. Шарлемань. Адмиралтейская площадь (ок. 1850). Дом Гейнденрейха (1901) 6
Fig. 1–2. I. Charlemagne. Admiralteyskaya Square (roughly 1850). The Heindenreich House (1901)
Обратим внимание, что оба упоминаемых в черновиках к «<Картузову>» петербургских топонима так или иначе ассоциируются с высшим обществом, что намеренно подчеркивается Достоевским: в случае с гостиницей «Лондон» сказано, что «там стоят самые значительные лица», в случае же с «Красным кабачком» упомянуты «генералы и самые значительные из камергеров» [Д35; т. 11: 110]. Обе записи расположены на одной странице рабочей тетради. Стремление Картузова оказаться в ряду «значительных лиц», как и эпизод драки с половым в трактире, усиливают его карикатурность. Драки и правда становились регулярным явлением в «Красном кабачке», о чем говорит М. Н. Лукашев: «Не следует думать, что это были всего лишь тривиальные ссоры в питейном заведении. Вовсе нет! <…> И главный интерес для молодых гуляк представляла даже не сама потасовка, а предшествовавший ей фривольный розыгрыш немецких посетительниц трактира. Ссора же становилась неизбежным финалом такого розыгрыша, поскольку вполне естественно, немцы решительно выступали на защиту своих дам» [Лукашев: 88]. Если драка в рамках сюжета повести носила именно такой характер, она бы дополнила портрет Картузова и подчеркнула ироничную природу его «рыцарства», предполагавшего верность Прекрасной Даме.

Илл. 3. Трактир «Красный кабачок» (1907) 7
Fig. 3. The Tavern “Krasnyy kabachok” (1907)
-
7 Источник снимка: Трактиры и кабаки, светские рестораны и «дамские чайные»: как рождалось общественное питание Петербурга // Правила жизни. 28.08.2025 [Электронный ресурс]. URL: https://www.pravilamag.ru/letters/756335-traktiry-i-kabaki-svetskie-restorany-i-damskie-chainye-kak-rojdalos-obshchestvennoe-pitanie-peterburga/ (11.09.2025).
На страницах черновиков к «<Картузову>» мы находим запись, сделанную от лица рассказчика:
«Я отнюдь не литератор и поэт, прежде всего не поэт, но мне многое страшно в Петербурге . Конечно, всё это более было в юности, в век неопытности и впечатлений. Но, несмотря на лета, все-таки иногда… и т. д.» (курсив мой. — А. Н. ) [Д35; т. 11: 111].
Расшифровать эту характеристику Петербурга позволяют «Зимние заметки о летних впечатлениях» («Одним словом, вся эта заказная и приказанная Европа удивительно как удобно уживалась у нас тогда, начиная с Петербурга — самого фантастического города , с самой фантастической историей из всех городов земного шара» [Д35; т. 5: 65]) и «Записки из подполья» ( «Для человеческого обихода слишком было бы достаточно обыкновенного человеческого сознания, то есть в половину, в четверть меньше той порции, которая достается на долю развитого человека нашего несчастного девятнадцатого столетия и, сверх того, имеющего сугубое несчастье обитать в Петербурге, самом отвлеченном и умышленном городе на всем земном шаре. (Города бывают умышленные и неумышленные.)» (курсив мой. — А. Н.) [Д35; т. 5: 114] ) . Во всех трех случаях мы видим, как Достоевский обрисовывает образ города через эмоцию или впечатление, которое возникает у человека, оказавшегося в нем: чувство страха, ощущение несчастья, фантастичности, «умышленности», отвлеченности. Характеристика Петербурга как города, в котором «многое страшно», продолжает сложившуюся в начале XIX в. традицию Петербургского текста, который, по словам В. Н. Топорова, «при любой антитезе все-таки ориентирован на тот полюс, где плохо, где страшно, где страдают» [Топоров: 30].
Облик Петербурга вступает также в контраст с тем, как преподносится на страницах черновиков к «<Картузову>» Ревель: «смешной» город, «имеющий претензию быть рыцарским», и город, в котором «многое страшно». Кроме того, это характерное для Достоевского (а особенно — на рубеже 1860–1870-х гг.) противопоставление Запада и Востока и сюжет «путешествия героя» из европейского пространства (как указано выше, принадлежность Ревеля Российской империи имела скорее формальный характер) в пространство России. Этот сюжет наиболее очевидно представлен в романе «Идиот», над которым Достоевский работает, параллельно обдумывая «<Картузова>»: князь Мышкин приезжает из лечебницы в Швейцарии, куда возвращается в конце романа. Тот же сюжет встречается и в «Бесах»: например, рассказ Хроникера о странствиях Ставрогина («Наш принц путешествовал три года с лишком <…> он изъездил всю Европу…» [Д35; т. 10: 47]). Это наиболее любопытно с той точки зрения, что все три произведения — «Идиот», «<Картузов>» и «Бесы» — обдумываются Достоевским во время самого длительного его пребывания в Европе.
Тем не менее было бы несправедливо утверждать, что Петербург в художественной оппозиции Востока и Запада является адекватным воплощением Востока. Репутация «Северной Венеции» «умышленно» выстраивалась на подражании европейским образцам. Более того, ставшее общим местом противостояние Петербурга и Москвы всегда заключает в себе столкновение западного и восточного в русской культуре, о чем пишет и В. Н. Топоров: «…Петербург как цивилизованный, культурный, планомерно организованный, логично-правильный, гармоничный, европейский город противопоставлялся Москве как хаотичной, беспорядочной, противоречащей логике, полуазиатской деревне» [Топоров: 16]. Этот статус закрепился за Петербургом в литературной традиции XIX в. — начиная с пушкинских строк «Природой здесь нам суждено / В Европу прорубить окно» [Пушкин: 274] и заканчивая рассуждениями Гоголя об «общем выражении» Петербурга:
«Есть что-то похожее на европейско-американскую колонию: так же мало коренной национальности и так же много иностранного смешения…» [Гоголь: 179] 8 .
Достоевский продолжает эту традицию, что мы видим в приведенных ранее цитатах. И в рамках разговора о повести «<Картузов>» мы можем взглянуть на Петербург как на город, родственный Ревелю, а не противопоставленный ему. Другими словами, два этих пространства могут быть соотнесены по принципу «сосуществования» и «взаимодействия», возвращаясь к замечанию Бахтина (см. выше, с. 77).
Родство городов подчеркивает появление еще одного топонима: на страницах черновиков к повести мы встречаем упоминание Риги.
III