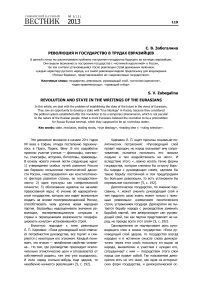Революция и государство в трудах евразийцев
Автор: Забегалина С.В.
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Философия и культурология
Статья в выпуске: 3 (13), 2013 года.
Бесплатный доступ
В данной статье мы рассматриваем проблему построения государства будущего во взглядах евразийцев. Они видели возможность построения государства с «истинной идеологией» в России, так как считали установившийся после революции строй временным явлением, чуждым характеру русского народа, а в самой революции видели предпосылку для возрождения «России-Евразии», представлявшейся им «надклассовым государством».
Государство, революция, руководящий слой, "истинная идеология", "идея-правительница", "правящий отбор"
Короткий адрес: https://sciup.org/14113782
IDR: 14113782
Текст научной статьи Революция и государство в трудах евразийцев
Это движение возникло в начале 20-х годов ХХ века в Софии, откуда постепенно перекинулось в Прагу, Париж, Вену. В его разработке приняли участие ученые — философы, лингвисты, этнографы, историки, богословы, правоведы. В основу нового учения легли следующие идеи: 1) утверждение особых путей развития России как Евразии; осмысление геоэтнической данности России, «месторазвития» как конститутивного фактора развития страны, ее государственности; 2) идея культуры как симфонической личности; 3) обоснование идеалов на началах православной веры; 4) учение об идеократиче-ском государстве, которое они видят возможным создать на основе послереволюционной России, способствовать чему должна новая народная партия. Евразийцы недооценивали значение революции, послереволюционную ситуацию в стране и переоценивали возможности «модифицировать изнутри» установившийся строй.
Вплотную подходит к теме революции Л. П. Карсавин: «Пока руководящий слой отвечает потребностям руководства, все терпят и смиряются с некоторым его эгоизмом. Каждый понимает, что эгоизм — неизбежное свойство человека... Но там, где руководство преследует исключительно эгоистические цели и отказывается от собственной родины, там оно уже выродилось. И если народ сколько-нибудь еще здоров, то неизбежно начнется революция» [5, c. 192].
Карсавин Л. П. ищет причины социально-политических потрясений: «Руководящий слой правит народом, но народ оказывает ему сопротивление, пытается пополнить его новыми людьми и тем воздействовать на него». И вследствие этого «…важно искать такие формы государства, которые снимали бы остроту борьбы народа с руководящим слоем, сделали бы такую борьбу постоянной и тем предупредили бы большие революции, то есть установили бы нормальное состояние» [5, c. 192].
Деспотическое государство, по мнению Карсавина, «…может сменить руководящий слой и тем продлить свою жизнь может только с помощью революции: изменением политического строя, устранением государя. Демократия же пытается борьбу народа с руководством заменить борьбой партий, чем дезорганизует сам руководящий слой, так как партии представляют не народ, но прежде всего этот слой» [5, c. 192].
Одновременно он подчеркивает роль руководящего слоя в жизни государства: «Если руководящий слой здоров, то государство всегда народно и в истинном смысле слова демократично через этот слой; поскольку он вырос из народа, внимателен и участлив к нуждам его, сотрудничает с ним — посредством этого слоя народ сам правит собой. Так называемая демократия есть не что иное, как одна из исторических форм государства, и демократической ос- тается до тех пор, пока не выродится руководящий слой». Л. П. Карсавин говорит о его слабости как причине революционных изменений: «Иногда, когда старый руководящий слой становится дряхлым и немощным, новые люди, молодежь захватывают революционным путем власть и, поэксплуатировав народ и набравшись некоторого опыта в идеологических шатаниях, наконец, успокаиваются и становятся новым народным руководящим слоем. Так было во Франции во время Великой революции, так происходит и сейчас в России, Италии, Германии» [5, c. 192].
По мнению евразийцев, революция воплотила в себе радикальный протест народа против того, что было создано Петром I, она была конечным следствием раскола нации, вызванного петровской реформой. Согласно Н. С. Трубецкому, Петр I уничтожил фундамент, на котором покоилась внутренняя мощь России, ни одному из иностранных завоевателей еще не удавалось до такой степени разрушить национальную культуру и формировавшийся веками национальный уклад [7]. Павел Сувчинский развил эту мысль: «Русские крестьяне с готовностью приняли большевистский лозунг непримиримой классовой борьбы не только потому, что хотели отобрать землю у помещиков; немаловажную роль сыграло стремление освободиться от чуждого и непонятного народу культурного слоя» [6, с. 163—164].
По мнению Н. С. Трубецкого, революция стала расплатой за «двухвековой режим антинациональной монархии», который восстановил против себя все слои населения, все большие и малые народы, результатом «саморазложения императорской России», падением всемирного европеизма. Н. С. Трубецкому претило по примеру веховцев Н. Бердяева и Франка изображение Октябрьской революции как «прорыва природной стихийности» русского народа, и он протестовал против рассуждений о «новой разинщине и пугачевщине». Одновременно революция 1917 года знаменовала собой начало евразийского возрождения России.
Для евразийцев, как и для многих эмигрантских кругов, большевики примерно с 1920 года были гарантом «имперского единства России» и импонировали послереволюционным эмигрантским группировкам прежде всего тем, что, «…несмотря на свои террористические методы власти, способствовали, казалось, возрождению национального величия их государства» [6, с. 161]. В частности, «…революция привела к созданию наилучшим образом выражающей евразийскую идею форме — форме федерации.
Ведь федеративное устройство не только внешне отличается от многочленной евразийской культуры, вместе с тем сохраняется ее единство. Оно способствует развитию и расцвету отдельных национально-культурных областей, окончательно и решительно порывая с тенденциями безумного русификаторства» [8, с. 396].
Новикова Л. И. считает, что в большевистской России они увидели «…не лишенный смысла социальный эксперимент» и «решили включиться в этот эксперимент с надеждой изнутри модифицировать советско-большевистскую систему, используя ее социальные структуры для реализации своей утопии — единой и великой евразийской державы» [1, с. 23].
Несмотря на то, что евразийцы принимают революцию в ее факте и свершении, «…в порядке мнимого закона исторической гетерогонии целей, они подчеркивают несоответствие и несовпадение революционной онтологии и замыслов эмпирических вожаков и совершителей смуты, волевой коммунистической группы» [9, с. 199]. Но евразийцы не допускают устойчивости коммунистической идеологии в России, «…потому что она есть плод чужой «европейской» культуры, последнее слово и завершение «европеизма» и, стало быть, не опасна для самоопределяющейся евразийской души. Силою вещей она неизбежно отпадет и уже отпадает» [9, с. 199].
Революция не воспринималась евразийцами как трагедия, поскольку они были убеждены, что коммунистическая идеология не привьется России и встретит отпор со стороны самих масс. Порукой тому служили атеизм и классическая направленность.
Савицкий П. Н. писал, что «…из опыта коммунистической революции вытекает для сознания евразийцев некоторая истина, одновременно старая и новая: здоровое социальное общежитие может быть основано только на неразрывной связи человека с Богом, религией; без-религиозное общежитие, безрелигиозная государственность должна быть отвергнута» (цит. по: Замалеев, 1994, с. 193). Атеистическое правление, по его мнению, это «владычество звероподобных», и отнюдь не случайно «…основной, определяющей силой социального бытия в условиях идейного господства материализма и атеизма оказывается ненависть, и приносит плоды ее достойные: мучения всем, а рано или поздно не могут не принести и последнего плода — мученья мучителям» (цит. по: Замалеев, 1994, с. 193).
В евразийстве есть воля и вкус к совершившейся революции, пишет Г. Флоровский, и евра- зийцы приемлют ее как обновление застоявшейся жизни. Они правы, революция есть «глубокий и существенный процесс», не «историческое недоразумение… примирение с «новой Россией», рождающейся в кровавой пене революции, для евразийцев вполне оправдывается совершившимся обнажением материка, освобожденного от насильственных наслоений» [9, с. 197].
И тогда приходит черед для создания «…новых форм государственности и для нормального развития самой России-Евразии». Сув-чинский П. П. считает, что непрерывно ругать революцию бесполезно, так как «опыт зла», выпавший на долю России, не должен заслонять главное — что «революция, изолировав большевистский контингент и выведя Россию из всех международных отношений, как-то приближает, помимо воли ее руководителей, русскую государственность (пока скрытую под маской коммунистической власти) к отысканию своего самостоятельного историко-эмпирического задания и заставляет вдохновляться им» (цит. по: Замалеев, 1995, c. 159). Это изолированное положение, по их мнению, позволит России вернуться в наследственное лоно евразийства.
Флоровский Г. показывает отношение евразийцев не только к революции, но и к самим деятелям революции, к тем, кто стал новым руководящим слоем. В силу образности приводим целиком всю цитату: «В каком-то смысле евразийцев зачаровали «новые русские люди», ражие, мускулистые молодцы в кожаных куртках, с душой авантюристов, с той бесшабашной удалью и вольностью, которые вызревали в оргии войны, мятежа и расправы. Точно от неожиданности, что в пленной и окованной России оказались «живые» люди, евразийцы загляделись на них; и все кажется в них мило и право уже по тому одному, что они — в России, сидят на родной земле, «естественно-органически вырастают из народного материка». Пусть эти новые люди, этот «новый правящий слой» собрался и скристаллизовался вокруг «воров», бездумных и скудоумных, — «выбора у народа не было», решают евразийцы; по нашей скудости и хилости на «ворах» русский свет клином сошелся. В этих «ворах» евразийцы увидели «воплощение государственной стихии». Их загипнотизировал большевистский пафос «народоводительства», волевой пафос коммунистической партии, пусть скудной и ложной в своей идеологии, но «властной до тираничности». В своей практической работе коммунисты невольно отобрали «здоровых и приспособленных» и властно обратили их на осуществление действительных, хотя и бес- сознательно угаданных народно-государственных целей. «Как-никак», давно уже сознаются евразийские авторы, «революция породила несомненных героев зла и разрушения...». Теперь они подчеркивают — не только разрушения, ибо во властном пафосе коммунистического интернационала народная стихия «почувствовала формальную наличность нужных ей качеств государственности и власти», нашла в нем свой кристаллизационный центр и упор. В действительности коммунисты оказались «бессознательными орудиями вырождавшейся государственности». Они вынесли на себе, хотя помимо своего умысла и воли, «новый народ», новый правящий слой. В известном смысле, по евразийской оценке, большевики как бы спасли Россию — от анархии, во всяком случае. И потому евразийцы сознательно и хотят быть «следст-венниками современного большевизма», «след-ственниками советской государственности» — в психологии и типе, в пафосе и внутреннем строе. Они хотят и призывают равняться по большевистскому примеру и типу, только переменив «конструктивный принцип» с безбожного на религиозный. Странным образом они не замечают и не понимают, насколько в формальном «типе» большевистского максимализма отражается и выражается его безбожная, бесчеловечная, бесовская сущность, — не чувствуют, что при «полярных» основаниях окажутся необходимыми инородные и инотипные «методы и силы» [9, с. 199].
Также Г. Флоровский отмечает, что евразийцам «становится боязно и страшно за судьбы «нового правящего слоя», сложившегося и скрепленного на коммунистическом «упоре». И вследствие этого «ради спасения революции в ее социально-онтологических достижениях и итогах, для закрепления осуществившегося в ней великого народно-государственного сдвига нужно заменить выдыхающуюся коммунистическую идеологию новой, органической системой идей» [9, с. 199].
Общая историческая тенденция — то, что на смену старым моделям правления должна прийти новая — идеократия. В ней все государственное и культурное строительство стихийно направлено на создание особых форм, соответствующих самому ее принципу, независимо от конкретного содержания «идеи-правительницы».
«Идея-правительница» нужна, чтобы обезвредить ложные и абстрактные идеологии, она должна быть выработана в органичной связи с конкретной жизнью. Такая «идея-правительница» не может быть понята другими до конца,
«она переживается, но часто не осознается, — пишет И. А. Исаев, — колыбелью ее является духовное самосознание и реальный опыт правящего слоя данной национальной культуры».
«Ложной, Сатанинской и злой, но огромной идее коммунизма» нужно противопоставить новую идею, соравную ей по мировому размаху, по широте и охвату, — нужно найти и противопоставить ей новую «идею-правительницу». Найти ее и подслушать можно и нужно «в недрах общей духовной обстановки момента и эпохи», ибо «семя идеи — сама жизнь». Эта новая идеология должна сразу стать реальной силой — «идеи должны иметь аппарат прямых действий». Новая «идея должна заменить нам государство, средоточие и вождя, до тех пор, пока наше государство, средоточие и вождь не будут реально созданы, сделаны идеей» [9, с. 199].
Флоровский Г. описывает то, как евразийцы представляют способ осуществления этой идеи: «И это возможно только через создание новой «партии» — правда, партии особого типа и строя. В этом типе и строе евразийцы стараются учесть пример и урок большевизма. Это партия единая и единственная, правительствующая, исключающая самую «партийную систему», то есть множественность партийных группировок. Эта новая партия слагается и должна слагаться на основах единого и общего, конкретного и всеобъемлющего миросозерцания. Это не простое объединение по частному поводу и для частных целей, хотя бы и политических, — но крепкий и строгий «государственно-идеологический союз», некая «идеологически-политичес-кая лига». Он слагается по началу отбора, но отбора органического, творимого самой жизнью. В свободном, изнутри направляемом развитии и росте «симфонической народной личности», в порядке естественной и необходимой социальной дифференциации, выделяется и слагается в себе своеобразная «соборная личность» второго порядка, «правящий слой», и в нем, как его средоточие и сердцевина, как его живой стержень, выделяется некий «государственный актив», — это и есть «единственная правительствующая партия» [9, с. 199].
Система сплошных и непрерывных органических связей между всеми слоями, уровнями и концентрами социального бытия обеспечивает прямое и непосредственное соответствие между ними в мысли и воле. «Выражая и утверждая свою мысль и свою волю, правящий слой и правительствующая партия тем самым выражает «бессознательную, стихийную», но твердую всенародную общую волю, которую в себе са- мих они носят, и знают, и опознают. Они «формулируют народное миросозерцание», в народных массах «лишь не осознанное, хотя и определенное». И мысль, и воля правящего слоя «в нормальных условиях являются в целом и главном лишь индивидуализацией и конкретизацией народного сознания», и — «существо этого процесса» индивидуации и конкретизации — органично» [9, с. 199—200].
Народная воля органически выражается и осуществляется в сильных людях, в сильном и собранном меньшинстве, — считает Г. Флоров-ский, — в живом и здравом народно-государственном организме не может и не должно быть внутренних противоречий, расхождений и натяжений. «И потому властное народоводитель-ство единого и единственного полномощного меньшинства не только не включает в себя элементов насилия и диктатуры, но, напротив, представляет собою последовательное осуществление начала народоправства. «Ведущее» меньшинство органически и непреложно выражает подлинную, хотя и бессознательную волю народа, воплощает и олицетворяет ее, отчеканивает ее в целостную идеологию. Выражая свое миросозерцание и осуществляя свою волю, правительство тем самым выражает и осуществляет народное миросозерцание и народную волю» [9, с. 200].
Евразийцами дается характеристика «истинной идеологии». Она «не отвлеченна, универсальна, симфонична или соборна…» [8, с. 352], «…истинная идеология, осуществляясь и требуя своего осуществления в полноте жизни индивидуума, многих индивидуумов, общества, уже как бы предсодержит в себе жизненные стихии конкретной деятельности. В этом как раз и заключается одно из самых важных отличий истинной идеологии от ложной, критерий истинности идеологий, хотя критерий только внешний и практический» [8, с. 353].
Носителем и выразителем новой идеологии, нового сознания выступает партия особого рода. В «опыте систематического изложения» евразийцы характеризуют ее следующим образом: «Правительствующая и своей властью ни с кем не делящаяся, даже исключающая существование других таких же партий. Она — государственно-идеологический союз, но, вместе с тем, она раскидывает сеть своей организации по всей стране и нисходит до низов, не совпадая с государственным аппаратом, и определяется не функцией управления, а идеологией». Новая партия должна находиться в тесной связи с правящим слоем, вырастать из него, сливаться с ним.
«Грядущая правительствующая партия изображается евразийцами в патетических и героических чертах, — пишет Г. Флоровский. — Партия, отвечающая традиции и потребности (евразийского) месторазвития в сильной и собранной власти; партия, железная спайка которой проникнута духом братства; партия со своею символикой и своей мистикой; партия, которая использует и включает в себя потребности и навыки русского сектантства и обращает их на служение нравственным заповедям Церкви и мирскому государственному делу; партия, строящая культуру как систему» [9, с. 200]. Это «Партия с большой буквы», носительница и выразительница потребностей и воли великой Евразии.
Евразийцы устанавливают верховенство идеи государства, выразителем которой является правящий слой над культурной жизнью, сферой духовного творчества, материальной, технической и т. д. «В избранном и отборном волевом меньшинстве народная жизнь получает и обретает свое единство, обретает свое лицо… государство есть только «форма»; и все же… «на первое место в иерархии сферы культуры следует поставить сферу государственную, преимущественным выразителем и носителем которой является правящий слой» [9, с. 200]. Ибо в государстве, в государственной организации впервые и вполне осуществляется и выражается единство культурной жизни. В нем и только в нем получает «действительное личное бытие» симфонический «культуро-субъект». И ниоткуда, кроме как из «личной», по преимуществу государственной сферы, нельзя получить «личную» организованность и законченность. Поэтому на подчиненных местах оказывается не только сфера «материально-культурная», хозяйственная и техническая, но и «сфера духовного творчества». Правда, обе эти сферы обладают собственным бытием и тяготеют к своим собственным средоточиям, стремятся каждая стать «соборным» субъектом, слагающимся из «соборных» личностей низших порядков [9, с. 200].
Идеи, составляющие государственно-общественный идеал, при самых разнообразных формах государственного и политического устройства формируют систему «идеалоправства государства». «Всякое длящееся правление, будь оно единодержавным, народодержавным или иным, есть та или иная форма идеалоправства. Более реально и ощутимо, чем люди и учреждения, народами и странами правят идеи, — писал Н. С. Трубецкой в работе «Об идее-правительнице идеократического государства». Так, «…реальная власть в государствах Востока при- надлежит не столько царю, сколько религиозной идее царя, в Риме — не императору, а национально-религиозной идее Рима; в Англии не министрам, а идее правового государства» [цит. по: Исаев, 1992, с. 21]. По своему характеру эти идеи представляются объективными, надличностными, коренятся в господствующей идеологии и, осмысливая общественные явления, выступают в виде идеала, образца, задания. Им присущи надпространственность и надвременность.
Идеология у евразийцев не просто инструмент власти, но сама власть, которая предстает в двух ипостасях — «идее-правительнице» и «правящем отборе». Когда «правящий отбор» находится на службе у «идеи-правительницы» — это время его нормального функционирования, когда же служба становится самоцелью, тогда усиливается бюрократизм и коррупция, происходит конфликт между правящей группой и «отбором». Правящий слой сдвигается с идеальных устоев в «классовый» период своего существования.
Истории известны удачные и неудачные попытки создания «правящего отбора». К неудачным евразийцы относят опричнину Ивана Грозного, к удачным — создание гвардии Петром Великим, служилого дворянства.
Флоровский Г. жестко критикует позиции евразийцев: «Всю жуткую и трагическую проблематику религиозно-культурного перерождения и преображения евразийцы, по старой интеллигентской манере, свели на задачу создания нового направления, новой партии, единой и единственной, которая должна переслоить выброшенный революционными бурями «новый правящий слой», с тиранической властностью организовать его вокруг себя и стать его основою и направляющей силой» [9, с. 200].
Возрожденная Россия-Евразия представлялась им «надклассовым государством». Евразийцы отвергали «обвинения и самообвинения» русских в «негосударственности». Данная славянофилами формула противоречит, на их взгляд, фактам — всей прежней истории России и устойчивости ее государственного организма, так как даже революция, вопреки ее идеологии разрушения государственности, привела к построению Советского государства. Однако тормозом на ее пути стало классовое начало, которое нашло свое выражение в диктатуре пролетариата. Отсюда, конечно, не следует, что нужно отказаться от господства и подчинения. Без этого не может ни одно государство. В господстве и подчинении воплощается «порядок», а он должен быть «властным и принудительным».
Порядок должен устанавливаться не в интересах отдельных классов или групп, он должен сам по себе обладать «самостоятельной мощью», т. е. быть суверенным. «Такой властный порядок и есть государство, освобожденное от своей исторически классовой и несовершенной природы и возведенное до своей истинной идеи» [2, с. 159].
Евразийцы категорически отмежевывались от отождествления государственной идеи с какой-либо государственной формой, будь то аристократия или демократия. Их надклассовое государство не зависит от того или иного общественного класса, а всецело держалось благодаря деятельности особой социальной группы — «правящего слоя», «стоящего» вне классов. Принадлежность к этой группе определялась не какой-либо из отдельных частных функций, характеризующих деятельность других социальных групп евразийского государства, а исключительно «исповеданием евразийской идеи», подчиненностью ей, «подданством». Отбор властной элиты в евразийском государстве происходит по идеологическому принципу, и потому само государство называлось «идеократией». Сущность евразийского государства обусловливалась осуществлением «положительной миссии» — как в сфере экономических отношений, так и в сфере духовного творчества, культуры [3, c. 195].
В работе «Евразийство: формулировка» (1927) говорится, что, проводя план положительного строительства, евразийское государство накладывает на всех своих членов ряд «необходимых обязанностей», несоблюдение которых предполагает принудительную санкцию. «Евразийцы признают необходимость властного проведения в жизнь основных государственных целей и заданий и применения силы там, где исчерпаны все другие средства» [2, с. 159]. Когда именно и как — решает само государство, а не общество, гражданам же позволено «перевоспитываться и по возможности принимать участие в политической жизни» [2, с. 159].
«Сознание долга» еще не сближает граждан «с ведущим отбор», но при определенных условиях делает их материалом для «комплектации». Ни с чем не сравнимое положение «ведущего отбор» объяснялось тем, что он объявлялся «преимущественным выразителем и субъектом культуры», ибо в евразийской «иерархии сфер культуры» — государственной, духовной и материальной — первое место принадлежало государственной культуре.
Согласно Л. Карсавину, «…главная ошибка в господствующей в западноевропейской философии установке заключается в «индивидуалистической гносеологии», из которой следует отрицание общинного духа и утверждение классового и партийного эгоизма». В этом, по А. Ф. За-малееву, «…евразийцы сближались с теорией большевиков, они также верили в примат власти над правом, насилия над равенством. Многие из них не скрывали своей симпатии к большевистской партии, надеясь на ее евразийское перерождение» [2, с. 160].
-
1. Евразийство: за и против, вчера и сегодня (материалы «круглого стола») // Вопр. философии. 1995. № 6. С. 3—48.
-
2. Замалеев А. Ф. Курс истории русской философии : учеб. пособие для гуманитарных вузов. М. : Наука, 1995. 191 с.
-
3. Замалеев А. Ф., Осипов И. Д. Русская политология: обзор основных направлений : учеб. пособие. СПб. : Изд-во Санкт-Петербургского гос. ун-та, 1994. 208 с.
-
4. Исаев И. А. Утописты или провидцы? Вступит. ст. // Пути Евразии: Русская интеллигенция и судьбы России. М. : Русская книга, 1992. С. 5—24.
-
5. Карсавин Л. П. Государство и кризис демократии. Полюса евразийства // Новый мир. 1991. № 1. С. 183—193.
-
6. Люкс Л. К вопросу об истории идейного развития «первой» русской эмиграции // Вопр. философии. 1992. № 9. С. 160—164.
-
7. Письмо евразийцев П. Сувчинского, Л. Карсавина, П. Савицкого, кн. Н. С. Трубецкого // Путь. М. : Информ-Прогресс, 1992. С. 247.
-
8. Пути Евразии: Русская интеллигенция и судьбы России. М. : Русская книга, 1992. 432 с.
-
9. Флоровский Г. В. Евразийский соблазн. Полюса евразийства // Новый мир. 1991. № 1. С. 195—211.
Список литературы Революция и государство в трудах евразийцев
- Евразийство: за и против, вчера и сегодня (материалы «круглого стола»)//Вопр. философии. 1995. № 6. С. 3-48.
- Замалеев А. Ф. Курс истории русской философии: учеб. пособие для гуманитарных вузов. М.: Наука, 1995. 191 с.
- Замалеев А. Ф,. Осипов И. Д. Русская политология: обзор основных направлений: учеб. пособие. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского гос. ун-та, 1994. 208 с.
- Исаев И. А. Утописты или провидцы? Вступит. ст.//Пути Евразии: Русская интеллигенция и судьбы России. М.: Русская книга, 1992. С. 5-24.
- Карсавин Л. П. Государство и кризис демократии. Полюса евразийства//Новый мир. 1991. № 1. С. 183-193.
- Люкс Л. К. вопросу об истории идейного развития «первой» русской эмиграции//Вопр. философии. 1992. № 9. С. 160-164.
- Письмо евразийцев П. Сувчинского, Л. Карсавина, П. Савицкого, кн. Н. С. Трубецкого//Путь. М.: Информ-Прогресс, 1992. С. 247.
- Пути Евразии: Русская интеллигенция и судьбы России. М.: Русская книга, 1992. 432 с.
- Флоровский Г. В. Евразийский соблазн. Полюса евразийства//Новый мир. 1991. № 1. С. 195-211.