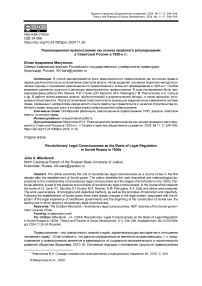Революционное правосознание как основа правового регулирования в советской России в 1920-е гг
Автор: Микуленок Ю.А.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 11, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается роль революционного правосознания как источника права в первое десятилетие после установления советской власти. Автор выделяет основные теоретико-методологические подходы к пониманию революционного правосознания и этапы его формирования в 1920-е гг. Особое внимание уделяется сущности и эволюции революционного правосознания. В ходе исследования были проанализированы работы В.И. Ленина, П.И. Стучки, Д.И. Курского, М.А. Рейснера, Г.М. Португалова, А.А. Сольца и др. В работе использовались анализ, хронологический и диалектический методы, а также принципы историзма и объективности. После установления советской власти произошли кардинальные изменения в системе права, связанные с непринятием юридического опыта свергнутых правительств и началом строительства советского права, ведущую роль в котором играло революционное правосознание.
Октябрьская революция, революционное правосознание, нэп, декреты советской власти, источники права
Короткий адрес: https://sciup.org/149146972
IDR: 149146972 | УДК: 34.096 | DOI: 10.24158/tipor.2024.11.29
Текст научной статьи Революционное правосознание как основа правового регулирования в советской России в 1920-е гг
Правосознание – это совокупность знаний и идей, характеризующих восприятие и отношение человека к праву1. Стоит отметить, что данное определение не является исчерпывающим, т. к. представление о правосознании меняется в зависимости от социально-экономического и политического развития общества (Бреднева, 2010: 9). Основные подходы к пониманию сущности правосознания в России внесли дореволюционные юристы И.А. Ильин, Б.А. Кистяковский, П.И. Новгородцев, Л.И. Петражицкий, B.C. Соловьев, Б.Н. Чичерин1 и др.
Новый этап развития правосознания приходится на период с 1917 по 1920 гг. Октябрьская революция внесла изменения в политическое, социально-экономическое и правовое развитие Советской России. Не стоит забывать, что свой отпечаток на развитии правовой системы и правового сознания оставила Гражданская война, в условиях которой органам власти на местах была предоставлена возможность действовать, опираясь не только на революционную законность, но и на революционную целесообразность.
В первое десятилетие после установления советской власти проблема правосознания освещалась в трудах Н.В. Крыленко, Д.И. Курского, Е.Б. Пашуканиса, Г.М. Португалова, М.А. Рейснера, П.И. Стучки и др.
После Октябрьской революции старая буржуазная правовая система была заменена советской, в основе которой лежала партийная идеология. Старые дореволюционные нормы права были отменены, а теория права, включая понятийный аппарат, – пересмотрена. Появились и новые источники права (Цуканов, 2021: 170): Декреты советской власти, Кодекс законов о труде, Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве; революционное правосознание и др. Однако опыт дореволюционной России большевики не стали полностью отвергать. Так, продолжали функционировать принципы судопроизводства, введенные судебной реформой императора Александра II: гласность, состязательность, относительная независимость и самостоятельность (абсолютную несменяемость и независимость большевики принципиально отвергали, считая данный принцип утопическим) (Крыленко, 1922: 7).
Революционное правосознание2, как источник права в Советской России, основывалось на революционной целесообразности, революционной совести и правосознании трудящегося класса. С первых дней установления советской власти В.И. Ленин призывал граждан установить строжайший революционный порядок и беспощадно подавлять любое нарушение законов3, установив тем самым один из принципов революционного правосознания. Анализ работ В.И. Ленина позволил выделить следующие принципы революционного правосознания: общеобязательность советских законов и обеспечения их исполнения, равенство граждан, связь закона и правовой культуры, опора на народные массы, единство прав и обязанностей граждан, установление правовых гарантий (Ленин, 1970).
Стоит отметить, что понятие и принципы социалистической законности менялись и развивались вместе с советским государством и правом: «Жизнь шла быстрее, чем закон и даже так называемое правосознание, не говоря уже о теории» (Стучка, 1934: 86), «когда мы в 1917 году смело провозгласили “революционное правосознание”, оно не имело того определенного классового содержания, какое мы вкладываем в эти слова ныне» (Стучка, 1931: 39).
Считаем целесообразным выделить два подхода к пониманию революционного правосознания, господствующих в первое десятилетие после установления советской власти.
-
1. Революционное правосознание как система взглядов и мировоззрения, основанная на классовом подходе и отражающая понимание законности и права (Г.М. Португалов, М.С. Строго-вич, П.И. Стучка и др.). Данный подход рассматривает революционное правосознание как обязательные правила поведения всех членов общества (Португалов, 1922: 19), как часть общественного сознания, элемент идеологии классового общества. «Правосознание, – говорит Михаил Соломонович Строгович, – это есть совокупность распространенных в классовом обществе взглядов, убеждений и идей, которые выражают отношение существующих в обществе классов (как господствующих, так и подчиненных) к действующему в обществе праву» (Строгович, 1940: 6).
-
2. В основе второго подхода лежит концепция «отмирания права», поэтому революционное правосознание рассматривается как революционная целесообразность (А.Г. Гойхбарг, М.А. Рейснер, Н.М. Янсон, А.А. Сольц и другие (Берлявский, 2018: 11)). А.А. Сольц, работник юстиции и старый большевик, ставил знак равенства между революционным правосознанием и революционной целесообразностью, за что подвергся критике со стороны Н.В. Крыленко и С.Д. Файнблита. Арон Александрович утверждал, что судья не должен слепо следовать букве закона. «Мы должны проверять норму закона, – пишет А.А. Сольц, – с точки зрения революционной целесообразности». Именно революционная целесообразность должна господствовать над формой права, поэтому судья должен на своем опыте проверять закон на соответствие новым реалиям (Сольц, Файнблит, 1925).
Богатый практический юридический опыт позволил М.С. Строговичу выделить следующие формы правосознания: признание права, уважение к праву, поддержка права, критика права и возражения против тех или иных положений права. В основе социалистического правосознания, по мнению ученого, лежит морально-политическое единство советского народа и марксистско-ленинское учение об обществе. Социалистическое правосознание Михаил Соломонович рассматривал как средство укрепления советского права и гарантию правильного применения права, т. к. правосознание судей и иных представителей власти способно обеспечить правильное уяснение правовых норм (Строгович, 1940: 12).
Петр Иванович Стучка указывал, что революционная законность – это не только соблюдение интересов революции и пролетариата, но и действующего законодательства молодой Cоветской России (Стучка, 1924: 8). Г.М. Португалов рассматривал революционное правосознание как массовое правосознание всех тех, кто воспринял учение о социализме как материально-правовое понятие, имеющее свои специфические черты: классовый характер, подчинение суда советскому законодательству, идейная основа – принципы социализма (Португалов, 1922: 44).
Более глубокий анализ теории революционного правосознания провели прокурор С.Н. Орловский и сотрудник военной юстиции В.И. Малкис. Они рассматривали право как систему норм, «отражающих порядок общественных отношений на переходный от капитализма к коммунизму период, соответствующих интересам господствующего большинства (рабочих и крестьян) и охраняемых организованной силой этого большинства» (Орловский, Малкис, 1926: 5). Советский закон является выражением общих интересов и потребностей. Революционная законность – это, прежде всего, соблюдение органами власти, гражданами и всеми проживающими на территории СССР лицами законов Рабоче-Крестьянского правительства, строжайшее соответствие единому закону обязательных постановлений, издаваемых местными органами власти, и обеспечение законом прав населения (Орловский, Малкис, 1926: 5).
Ссылки на революционное правосознание содержатся в первых декретах советской власти о суде, Положении ВЦИК «О Народном Суде РСФСР 1918 г.», Наказе народным судам 1918 г., Руководящих началах по уголовному праву РСФСР 1919 г., Декрете ВЦИК «О революционных трибуналах 1919 г.», Положении «О военных следователях», Положении «О полковых судах», Уголовных кодексах РСФСР 1922 и 1926 гг. и др. Так, Декрет СНК от 22 ноября 1917 г. «О суде № 1» постановил: «Местные суды решают дела именем Российской Республики и руководствуются в своих решениях и приговорах законами свергнутых правительств лишь постольку, поскольку таковые не отменены революцией и не противоречат революционной совести и революционному правосознанию»1.
Дальнейшее отражение основных положений Декрета «О суде № 1» нашло в Положении ВЦИК «О Народном Суде РСФСР»: «При рассмотрении всех дел Народный Суд применяет декреты Рабоче-Крестьянского правительства, а в случае отсутствия соответствующего декрета или неполного такового руководствуется социалистическим правосознанием»2. Соответственно, Народные Суды получили право по своему убеждению определять меру наказания, выносить приговор об условном или полном освобождении обвиняемого от всякого наказания или же уменьшить наказание (Курский, 1927: 45).
Например, в 1922 г. Краснодарской Особой Сессией Нарсуда в открытом заседании было заслушано уголовное дело по обвинению С.М. Братчикова в краже продуктов и скота. В ходе судебного разбирательства была доказана вина обвиняемого. Следствием была установлена и причастность Братчикова в целом ряде краж в составе организованной банды. С.М. Братчиков был приговорен к 5 годам лишения свободы, однако, принимая во внимание возраст подсудимого (19 л.), суд счел возможным допустить снисхождение и приговорить С.М. Братчикова к 3-м годам лишения свободы3. Руководствуясь идеями справедливости, декретами советской власти и революционным правосознанием, судья мог продлить срок исковой давности, присудить справедливое требование (Португалов, 1922: 21).
Декреты о суде предусмотрели прямую реализацию революционного правосознания через внедрение в судебную систему народных заседателей, которые, с одной стороны, стали проводниками идей законодателя в массы, с другой – создали вокруг судьи среду, «в которой социалистическое правосознание стало живым источником права» (Чельцов-Бебутов, 1925: 78). Председатель Верховного Суда СССР Н.В. Крыленко отмечал: «В наших судах решает дело выборный и подконтрольный Совету рабочих депутатов народный судья. <…> В помощь сидят заседатели с фабрик и заводов, от сохи и от станка. Наши красные прокуроры на 60 % из рабочих и на все 100 % с испытанным революционным прошлым. Прежние адвокаты работают с нашего ведома и под нашим контролем. Наши законы построены на основе наших принципов» (Крыленко, 1922: 6).
Согласно советскому законодательству, революционные трибуналы выносили приговоры, руководствуясь обстоятельствами дела и велениями революционной совести1. В Положении «О революционных военных трибуналах» это положение дополняется: «Революционный трибунал руководствуется интересами Социалистической Республики, обороны ее от врагов и интересами классовой войны» (Португалов, 1922: 22). Революционные трибуналы получили право выбирать любое наказание, которое, по их социалистическому правосознанию и революционной совести, было наиболее целесообразным и необходимым (Берман, 1924: 22).
Анализ нормативно-правовых актов выявил тенденцию сужения области применения революционного правосознания после 1918 г. Так, в законодательстве в данный период времени встречается уточнение: если отсутствует соответствующий декрет, то суд руководствуется социалистическим правосознанием (Португалов, 1922: 24). Назначение наказания, согласно нормам УК РСФСР 1922 г., производилось судебными органами по их социалистическому правосознанию с соблюдением руководящих начал и статей Кодекса2, соответственно, судья не мог выносить решение только на основании одного социалистического правосознания, а обязан был опираться на нормы Уголовного кодекса.
Революционное правосознание рассматривалось партийной элитой как инструмент вовлечения граждан в партийное строительство (Максимова, 2014: 89), поэтому нередко судейское кресло становилось трибуной для агитации нового мировоззрения, что нашло свое отражение и в «Руководящих началах по уголовному праву РСФСР». Ст. 12 установила обстоятельства, смягчающие (неимущий класс, голод, нужда, невежество и т. д.) и отягчающие (представитель «бывших», преступление совершено в интересах буржуазии, группой лиц, рецидив, жестокость и т. д.) вину, руководствуясь классовым подходом. Судебные приговоры должны были будить революционное правосознание трудящихся масс. Наказывая, например, спекулянта за покупку или продажу золота, судья писал в приговоре, что определили такую-то меру наказания за то, что гражданин позволил себе торговлю «нашим золотом, на которое мы могли бы купить за границей паровозы». Если же на скамье подсудимых оказывался рабочий, то в приговоре обосновывалась другая цель – повышение самодисциплины среди пролетариата3.
Так, Революционный отдел СКВО в 1921 г. рассматривал дело красноармейцев Цехонина Ивана и Седова Егора, которых обвиняли в продаже казенного сена, и бывшего красноармейца Ванюкина Михаила, который обвинялся в покупке сена. Седова и Цехонина Революционный трибунал признал виновными в совершении данного деяния и приговорил к 6 месяцам содержания в штрафной роте каждого. Ванюкина, принимая во внимание его тяжелое положение голодающего, прибывшего с Поволжья разыскивать свою семью, – к 6 месяцам принудительных работ условно4.
Немало примеров из своей практики применения революционного правосознания судами привел народный судья И. Ростовский: «У торговца бриллиантами Б. некий комиссионер, взяв драгоценные камни на сумму в несколько сот тысяч для того, чтобы показать их покупателю, с таковыми скрылся. Жадный буржуа, совершенно выбитый из колеи своей потерей, обращается с жалобой в уголовный розыск, а в результате привлечение к ответственности не только похитившего бриллианты (которые так исчезли), но и жалобщика за спекуляцию»; «Случайно я оказался свидетелем яростных антисемитских выпадов со стороны одной молоденькой девушки. Тут же был мною составлен протокол, допрошены свидетели, и на другой день она была мною же судима. <…> Учтя, что преступление ею совершено вследствие невежественности, суд приговорил ее к прохождению курса политической грамоты» (Ростовский, 1922: 16–17).
Малообразованный обыватель тонко чувствовал конъюнктуру своего времени, поэтому нередко революционное правосознание воспринималось им через искаженную призму политической реалии, с выгодной для себя позиции. Приходя в зал суда, тяжущийся всегда старался в своей речи использовать социально значимые маркеры: «большевик», «советский работник», «красноармеец» и т. д. Эта же тенденция прослеживается при анализе писем граждан во власть или в контрольные органы. В этих письмах часто встречаются типичные фразы: «муж погиб во время Октябрьской ре-волюции»1; «ответственный советский служащий»2; «как жена красноармейца»3; «бывший юный красноармеец»4; «зарабатывающий пропитание исключительно своим тяжелым трудом»5 и др. Порой статус подчеркивался и обращением к судьям: «товарищи судьи»6.
Однако не стоит рассматривать революционное правосознание в узком смысле. Практика Местных Народных Судов показала, что суд прежде всего опирается на советский закон, а уже потом на классовый подход. Так, Революционный военный трибунал Кавказского побережья Черного моря в 1920 г., рассматривая дело А. Петрова и Г. Кутенева, вынес обвинительный приговор, не принимая во внимание классовое происхождение и низкий культурный уровень Анатолия Петрова и революционные заслуги Григория Кутенова7.
Рассматривая иск гражданки Чертенковой к гражданину Карамза, Нарсуд 1-го района Изюмского округа, руководствуясь революционной совестью и местным обычаем, почти полностью удовлетворил исковые требования Чертенковой. В своем заявлении истица утверждала, что гр. Карамза, «обольстив ее обещанием жениться на ней, уговорил ее перейти к нему для совместного жительства». Прожив с ней, как с женой, один месяц (причем она работала в его хозяйстве), Карамза не только отказался от регистрации брака, но и выгнал ее из дома. Чертен-кова просила денежную компенсацию за гражданское бесчестье и за проработанное время в размере более 5 000 руб. Однако в порядке апелляции, а затем и кассации решение нижестоящего суда было пересмотрено исходя из следующих соображений:
-
1. гражданка Чертенкова являлась женой, а не наемной работницей;
-
2. принуждение денег за бесчестье не мотивировано и не предусмотрено советским законодательством (Ривлин, 1926: 43).
С первых дней существования советской власти революционная законность сводилась не только к неукоснительному выполнению законов, но и к обеспечению и защите прав населения. Стоит отметить, что первые приговоры были достаточно гуманными. Судья Н.К. Ломакин вспоминает: «Зачастую мы выносили общественное порицание, налагали небольшие штрафы; я не помню, чтобы кто-нибудь был присужден более чем к двухлетнему тюремному заключению»8.
В первое десятилетие после установления советской власти революционное правосознание стало основой правового регулирования в Советской России. Хотя подход к пониманию содержания и основных принципов революционного правосознания был многополярным, теоретики советского права П.И. Стучка, Д.И. Курский, Г.М. Португалов, А.Г. Гойхбарг, М.А. Рейснер, Н.М. Янсон, А.А. Сольц выдвинули свои концепции «социалистического правосознания». Неудивительно, что в период быстро развивающихся социально-экономических и политических отношений, а, следовательно, и развития права, теоретические подходы революционного правосознания постоянно менялись. В сложных условиях становления советской теории права, основанной на классовом подходе, революционное правосознание стало одним из способов поддерживать правопорядок и вовлекать граждан в партийное строительство.
Список литературы Революционное правосознание как основа правового регулирования в советской России в 1920-е гг
- Берлявский Л.Г. Революционное правосознание как ценность правоохранительной деятельности советского периода // Ценности правоохранительной деятельности: теоретические и практические аспекты: сборник материалов Всероссийской научно-теоретической конференции. Ростов н/Д., 2018. С. 11-18.
- Берман Я.Л. Очерки по истории судоустройства РСФСР. М., 1924. 71 с.
- Бреднева В.С. Уровни правосознания и юридическая деятельность: монография. Южно-Сахалинск, 2010. 164 с.
- Крыленко Н.В. Через пять лет // Советская юстиция. 1922. № 44-45. С. 6-7.
- Курский Д.И. На путях развития советского права. Статьи и речи 1919-1926 гг. М., 1927. 118 с.
- Ленин В.И. Полное собрание сочинений: в 55 т. М., 1970. Т. 50. 624 с.
- Максимова О.Д. Революционное правосознание как источник советского права и законодательства // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2014. № 9 (47). С. 88-94.
- Орловский С., Малкис В. Революционная законность и Красная Армия. М., 1926. 74 с.
- Португалов Г.М. Революционная совесть и социалистическое правосознание. Петроград, 1922. 50 с.
- Ривлин Э.С. Советская адвокатура. М., 1926. 111 с.
- Ростовский И. Как работал Народный суд в 1918 г. // Советская юстиция. 1922. № 44-45. С. 16-17.
- Сольц А., Файнблит С. Революционная законность и наша карательная политика. М., 1925. 123 с. Строгович М.С. Право и правосознание. М., 1940. 9 с.
- Стучка П.И. Революционная роль права и государства. Общее учение о праве. М., 1924. 140 с.
- Стучка П.И. 13 лет борьбы за революционно-марксистскую теорию права. М., 1931. 266 с.
- Стучка П.И. Революционная роль советского права. М., 1934. 178 с.
- Цуканов С.С. Исторические истоки концепции революционного правосознания // Регулирование правоотношений: вопросы истории, теории и юридической практики: материалы Всероссийского научно-практического круглого стола. Хабаровск, 2021. С. 167-171.
- Чельцов-Бебутов М.А. Преступление и наказание в истории и в советском праве. Харьков, 1925. 111 с.