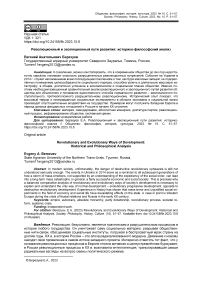Революционный и эволюционный пути развития: историко-философский анализ
Автор: Березуев Е.А.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 10, 2023 года.
Бесплатный доступ
К сожалению, можно констатировать, что в современном обществе до сих пор недостаточно серьёзно понимают опасность разрушительных революционных потрясений. События на Украине в 2014 г. служат напоминанием всем последующим поколениям о том, как буря массовых эмоций, не подкреплённых пониманием целесообразности социального порядка, способна увлечь в длительную массовую катастрофу, в общем, достаточно успешное в экономическом и социальном планах общество. Именно поэтому необходим взвешенный сравнительный анализ революционного и эволюционного путей развития общества для объяснения и понимания единственного способа нормального развития - эволюционного поступательного, противоположного разрушительному революционному. Исторический опыт показал, что массовый террор и неоправданные социальные эксперименты в области экономики и социальной жизни производят опустошительные воздействия на государство. Примером могут послужить Западная Европа в период кризиса феодальных отношений и Россия в начале XX столетия.
Империя, самодержавие, абсолютная монархия, диктатура партии, революционный процесс, реформирование общества, системный кризис
Короткий адрес: https://sciup.org/149143446
IDR: 149143446 | УДК: 1:321 | DOI: 10.24158/fik.2023.10.6
Текст научной статьи Революционный и эволюционный пути развития: историко-философский анализ
Актуальность . Начало XXI в. на Украине и на Ближнем Востоке прошло под знаком «цветных революций», оставивших кровавый след в социальном развитии народов суверенных стран, поддавшихся иллюзии «наведения порядка» радикальными средствами. Обращение к прошлому – к XX, да и к XVII вв. – позволит составить чёткое и недвусмысленное представление о пагубности революционного насилия и опасности для общества носителей его идеологии.
В России самодержавная монархия существовала со второй половины XV в., когда сформировалось более или менее единое государство, которое ко второй половине XVI в. стало централизованным. По мнению историка Р. Пайпса, не всеми разделяемому, Россия стала с того момента «вотчинным», патримониальным государством (Пайпс, 1993). Оно характеризовалось стремлением правителя России выступать в качестве собственника земли. Отличительной особенностью отечественного самодержавия, в сравнении с абсолютной монархией Пруссии, Испании или Франции, является отсутствие института частной собственности. Характерные черты так называемой вотчинной монархии следующие:
-
1) абсолютная власть суверена;
-
2) сосредоточение в одних руках экономических ресурсов;
-
3) тотальная лояльность подданных;
-
4) монополия на информацию (Пайпс, 1993).
Монархия правила Россией с помощью пяти социальных институтов: гражданской службы, тайной полиции, дворянства, армии и православной церкви (Пайпс, 2005 а). Накануне революции Россия почти двести лет являлась империей и при этом показала не только то, что может учиться у Запада, но и способна выстраивать собственный путь цивилизационного развития. Российская империя как бы служила мостом между Западом и Востоком, реализуя при этом ценностно-целевые сценарии расширения своей территории. При этом распространение получили также идеи, которые К.Н. Леонтьев охарактеризовал, как византизм (Леонтьев, 2007). Что характерно, империя в отличие от царства, – это не просто протяжённое государство, а максимальное воплощение державности, политического господства (Березуев, 2022). Со времён Римской цивилизации возникло представление, что империя существует, пока она может расширяться, завоёвывая новые территории. Вооружённая экспансия объясняется намерениями достигнуть военного, коммерческого и культурного превосходства. Внешнеполитический фактор, доминируя над внутренними тенденциями роста, приобретает гипертрофированный характер. Являясь централизованным государством, империя содержит значительные военные силы за счёт налогоплательщиков, крайне заинтересована в поддержании стабильного политического режима, реализуя преимущественно консервативный курс во внутренней политике. Логика ее зарождения и развития имеет свою чёткую последовательность. В первую очередь, агрессивное и опасное с точки зрения возможности внешнего вторжения окружение понуждает власть формировать собственную мощную армию, способную вести энергичные и, если это необходимо, безжалостные кампании против врагов, угрожающих безопасности государства. Победа в войне всегда имела и материальное измерение. Экономика получала значительные поступления в виде трофеев и репараций, территориальные приобретения награждали государство новыми торговыми путями, появлялись также дополнительные граждане-налогоплательщики.
Царизм в России концентрировал в своих руках законодательную и исполнительную власть, управляя страной с помощью служилого дворянства и чиновничества.
Безусловно, главным аспектом революции является борьба двух или более политических группировок за обладание властью, но необходимо также учитывать, что каждый политический субъект, втянутый в противостояние, представляет интересы тех или иных больших социальных групп. Например, Великая французская революция показала, как приниженное и отодвинутое на обочину политической жизни, отстранённое от принятия решений по ключевым вопросам буржуазное сословие всё более радикализовалось в своей попытке уничтожить старый режим во главе с аристократией, и по мере ужесточения борьбы оно постепенно встало на путь беспримерного террора. Якобинская диктатура с её репрессивным механизмом не может вызывать ассоциации с красным террором 1918–1920 гг. во время борьбы за власть ленинской партии в России.
Не менее интересны для изучения революционных событий и процессы 1990–1991 гг., приведшие к демонтажу советского государства. По крайней мере, не вызывает сомнения, что появление и активная деятельность либеральных политиков способствовали именно этому.
Мы попробуем разобраться с некоторыми вопросами:
-
1. Почему вековые конформизм и патернализм русского народа оказались настолько подвержены эрозии и разрушению, что февральский смерч революционных событий спровоцировал радикальный пересмотр традиционных устоев жизни и набора поведенческих практик?
-
2. Анализируя революционные процессы в России в 1917 г., мы невольно бросаем взгляд на Великую французскую революцию, продемонстрировавшую впервые в истории бескомпромиссный подход к старому режиму. Поэтому возникает вопрос: действительно ли русский опыт революций существенно отличается от европейского?
-
3. Как оценивает современное общественное мнение революцию, то есть её последствия?
Методология . Исследование опирается на общефилософский подход, определивший методологию междисциплинарного исследования, философско-культурологическую методологию, способствовавшую осмыслению принципов, форм и содержания таких модернизационных процессов, как революция и путь постепенных реформ; культурно-антропологические методы, обусловившие возможность рассмотрения изменений социальной психологии и поведения масс при модернизационной трансформации.
Русская революция в наиболее широком рассмотрении – это не только события 1917– 1918 гг., когда происходил непосредственный слом старой государственной машины; данное социальное движение становится существенной чертой русской общественной жизни начиная с 60-х гг. XIX столетия. Первый цикл русской революции начался с волнений 1905 г., почвой для которых стало требование принятия Конституции. Тогда с ними удалось справиться путём сочетания репрессивных мер и определённых уступок. В феврале 1917 г. волнения возобновились в большем масштабе. Вся эта «кутерьма» завершилась октябрьским большевистским переворотом. Дальнейшее развитие русской революции напоминало оригинальное сочетание «красногвардейской атаки на капитал» и политику «отступления для удержания захваченных позиций» (НЭП). Последнее, как это задумывал В. Ленин, позволяло укрепить экономику и провести некоторые изменения в социальной жизни. Революция в её истинном понимании возобновилась в 1927–1928 гг. и завершилась примерно через 10–12 лет установлением тоталитарного режима. В классической работе К. Фридриха и З. Бжезинского «Тоталитарная диктатура и автократия» были определены основные типологические признаки тоталитаризма, которые важно вспомнить в контексте нашего исследования: 1) общеобязательная идеология, подчиняющая своему воздействию все стороны жизни человека, в том числе и частную жизнь; 2) монополизация власти одной партией «вождистского» типа; 3) полицейский террор, постоянно нагнетаемое в обществе чувство страха, охота за инакомыслящими; 4) монополизация средств массовой информации в интересах правящей партии и идеологии; 5) централизация экономики, плановое ведение хозяйства, уничтожение гражданского общества (Фридрих, Бжезинский, 1993). Тоталитаризм виделся как быстрое и простое средство обуздания архаичных основ и сплочения структур общества.
По мнению отечественного философа В.П. Римского, раскол традиционной цивилизации и её движение к будущей катастрофе происходили в России чуть ли не с начала противостояния западников и славянофилов. Тернистый путь к современному обществу последовательно принимал форму столкновения антиномий «Россия и Европа», «Московская Русь и Петровская Россия», «Москва и Петербург» и т.д.1
Французская революция стала первым в истории социальным экспериментом по уничтожению старого режима. Интересно, что в Париже был даже создан научный институт по изучению революции и её наследия в плане этического содержания. Так, формулировались вопросы: должны ли разрушаться создававшиеся веками и прошедшие испытание на прочность социальные образования ради новых систем; оправдано ли жертвовать благополучным бытием и даже самой жизнью современных поколений ради людей, которые будут жить в будущем; можно ли превратить человека в идеальное существо, покорное государственной машине и т. д.
Франция накануне революции была классической абсолютной монархией, опирающейся на бюрократическую централизованную машину и постоянную контрактную армию. Существовавший социально-экономический и политический режим сложился в результате сложных компромиссов, выработанных в ходе длительных политических конфликтов (гражданских и религиозных войн XIV– XVII вв.). Один из них был достигнут между абсолютистским режимом и привилегированными сословиями – за отказ со стороны дворянства и духовенства от политических прав государственная власть всеми силами сохраняла разнообразные привилегии и вольности для данных сословий. Другой компромисс существовал по отношению к крестьянству, которое добилось отмены подавляющего большинства денежных налогов при расширении института частной собственности на землю. Третий компромисс касался буржуазии (второй стратой третьего сословия наряду с крестьянством), в отношении которой власть выполняла некоторые обязательства, например, стремилась поддерживать существование тысяч мелких и средних предприятий. Несмотря на это, королевская власть постепенно стала терять доверие в глазах буржуазии, дворянства и духовенства;
утверждалась мысль, что власть короля является узурпацией по отношению к правам сословий и корпораций (Монтескье, 1999) или по отношению к правам народа (Руссо, 1998). Благодаря деятельности просветителей (физиократов и энциклопедистов) в сознании многих образованных людей произошёл переворот, породивший социальную группу – радикальную интеллигенцию.
Период якобинской диктатуры стал высшей точкой восходящей линии революции. В сложных условиях правительство пошло на крайние меры в надежде, как казалось, сохранить важнейшие завоевания революции: в 1793 г. Людовик XVI был гильотинирован на площади Революции; в этом же году был принят законодательный акт, передававший крестьянам общинные и эмигрантские земли для раздела.
Принятая во Франции 26 августа 1789 г. Декларация прав человека и гражданина1 провозглашала, что все люди рождаются и остаются свободными и равными в правах, среди которых неотъемлемыми являются право на жизнь, свободу, собственность и сопротивление угнетению. Однако обещанное революционерами «царство справедливости» обернулось годами жесточайшего террора в период господства якобинцев. Весь ход жестоких потрясений опровергал гуманистические идеалы, выдвигавшиеся просветителями XVIII в. Годы якобинского правления кровавыми ранами покрыли общество. Так, знаменитый крестьянский Вандейский мятеж был естественной реакцией на жестокую диктатуру. Революция разрасталась по линии всё большей радикализации. Постепенно власть перешла от конституционных монархистов к либеральной буржуазии и, наконец, на высшем этапе революции к радикалам-якобинцам. До определённого момента выступления народных низов закрепляли достигнутые «завоевания», но инерция массового движения, горячая нетерпимость его вождей привели к тому, что революция «проскочила» границу социально-экономической стабильности. Под давлением бедняков был принят закон о «максимуме» – на продовольствие принудительно ввели низкие цены. Занятие сельским хозяйством вмиг стало нерентабельным. Недовольными оказались и рабочие – в интересах обороны страны власть стала регулировать размер заработной платы.
Якобинская диктатура успешно использовала инициативу масс, но она также продемонстрировала полнейшее отрицание принципов либерализма. Промышленное и сельское хозяйство, финансы и торговля, общественные празднества и частная жизнь граждан – всё подверглось строгой регламентации. Однако она не смогла предотвратить наступление жесточайшего социально-экономического кризиса. С осени 1793 г. террор был поставлен на службу революции.
Политические баталии происходили в Национальном конвенте, на площадях и улицах Парижа, на страницах газет, а итоги их потом подводились революционным трибуналом на площади Революции, где стояла гильотина. Главным орудием удержания власти якобинцами стал именно террор, политический смысл которого изменился. Конечно, и ранее было немало эксцессов, примеров неоправданной жестокости, но теперь из средства защиты революции террор превратился в несущую идейно-политическую конструкцию, на которой покоилось само «здание» нового социального порядка. Революция, как это представлялось, чтобы быть успешной, должна была научиться защищаться. А это как раз невозможно сделать без увеличения мощности и эффективности репрессивных органов. В ответ на усиливающийся террор возникали всё новые заговоры; это было связано с тем, что ни одна из политических группировок не могла рассчитывать на полную поддержку народа, как это было при свержении монархии. Террор – это страшное оружие достижения политических целей, причем страшное не только своей жестокой сущностью, но и дегуманизирующим воздействием на карательные органы и на само население, вовлечённое в сферу его действия. Восстание в роялистски настроенной Вандеи было естественной реакцией крестьян-католиков на репрессии атеистов-якобинцев.
В русской революции образ Вандеи можно отнести ко многим регионам. Это и Тамбовщина, и Западная Сибирь – фактически везде, где крестьянство испытало на себе тяготы военного коммунизма, образовывалась волна достаточно массового неприятия новой власти. Большевистская диктатура, возникшая на волне острого политического кризиса, подчеркивала свою связь с народом и его чаяниями. Действительно, первые ленинские декреты в целом были ориентированы на удовлетворение острейших проблем трудового населения. Мир, земля, свобода самоопределения наций – вот основные программные тезисы, изложенные в первых государственных актах. Проблема заключалась в том, ни одно из этих популистских предложений не было реализовано в изначальном смысле. Достижение полного контроля над обществом посредством диктатуры как минимум для удержания власти – вот цель большевиков, начиная с первых шагов их политического движения.
По мнению западного автора Джина Шарпа (Шарп, 2005), проблема диктатуры имеет глубокие корни. Народы многих стран пережили десятилетия или столетия легализованного насилия и принуждения. Зачастую требовалось беспрекословное подчинение государственным лицам и правителям. В особо тяжёлых случаях социальные, политические, экономические и даже религиозные институты общества преднамеренно ослаблялись, подчинялись и даже заменялись новыми, послушными режиму, и далее использовались государством и правящей партией для управления массами. Люди подвергались разобщению и становились неспособными совместно добиваться свободы, доверять друг другу или совершать поступки по собственной инициативе. Это формировало внутренне покорное большинство среди населения, массу конформистов и лоялистов.
Не менее интересным фактом истории является попытка большевиков легитимизировать свой захват власти. Для этого они допустили созыв Учредительного собрания. В. Ленин рассчитывал, что это будет временное отступление перед установлением диктатуры и однопартийной системы. Голосование было чрезвычайно сложным; из всех социалистических партий большевики были единственной партией, не сформулировавшей предвыборной программы. Они рассчитывали привлечь голоса путём широкого воззвания к рабочим, солдатам и крестьянам, используя лозунг «Вся власть Советам», и обещанием скорого мира и широкой раздачи помещичьей земли. Анализируя результаты выборов, необходимо отметить, что многие из тех, кто голосовал за большевиков, выражали одобрение не их политической программе (которой, по сути, не было), а идее советской власти вообще. В этом контексте внимания заслуживает мысль политолога С. Хантингтона о том, что существуют две опоры легитимности: с одной стороны, это могут быть успехи в социально-экономическом развитии, которые благотворно сказываются на общем состоянии общества, включая оптимизм и демографический прирост; с другой стороны, это строгость в процедурных вопросах избирательных систем, прозрачность и контролируемость обществом выбо-ров1. Относительно большевистского правительства приходится признать, что опора на насилие стала единственным рецептом удержания власти, по сути узурпированной.
Самым ужасным и негативным социальным экспериментом стал военный коммунизм. Ленинское правительство стремилось максимально развить и применить методы централизованного распределения ресурсов среди населения, истребляя со всей изощрённостью институт частной собственности. Лишенный собственности народ превращался (по замыслу большевиков) в управляемый и покорный. От военного коммунизма постепенно планировалось перейти к коммунизму «подлинному». Если следовать самой логике борьбы и выживания, то становится понятным, что, разрушая частную собственность, большевики ставили целью добиться своего выживания, так как, упразднив деньги и торговлю, они ввели меновой натуральный обмен, установив в то же самое время «продовольственную диктатуру». К 1921 г. военный коммунизм достиг своего апогея. К этому времени были приняты решения, которые полностью подчиняли государству все объекты хозяйственно-экономической жизни. Вкратце они включали следующие пункты:
-
1) национализация средств производства;
-
2) ликвидация частной торговли;
-
3) упразднение денег и замена их контролируемым со стороны государства прямым обменом товарами;
-
4) введение плановой экономики, действующей в интересах государства;
-
5) введение трудовой повинности (Пайпс, 2005 б).
Революционная диктатура и террор во многом стали синонимами. Чтобы удержать власть, первая должна была вначале атомизировать общество, подавить в нём волю к самостоятельному коллективному действию. Когда социум распадается на человеческие атомы, каждый из которых озабочен тем, чтобы стать незаметным и физически выжить, уже не важно, о чём думает их совокупность, так как вся сфера общественной деятельности безраздельно принадлежит государству (Пайпс, 2005 б).
В советской исторической литературе постулировалась мысль, что Российская империя благодаря политике царского режима превращалась в фактическую полуколонию западных стран, связанную кабальными договорами с империалистическими державами. Ленинский путь развития объявлялся как единственно правильный и успешный вариант модернизации. Истина заключалась в том, что начиная с XVIII в. Россия модернизировалась, и весьма успешным образом. В ходе индустриализации, урбанизации и экономических реформ страна уверенно двигалась от традиционного аграрного общества в сторону современного, с рыночной экономикой, реформированной судебной системой (Миронов, 2012). Начиная с петровских преобразований Россия, как и Англия, правда, несколько иначе, экономически развивалась и модернизировалась, но одновременно с этим переживала апогей крепостничества. Способность последнего удовлетворять базисные потребности населения являлась важным условием длительности его существования, ведь все социальные институты держатся не столько на произволе и насилии, сколько на функциональной целесообразности (Миронов, 2012).
Рассмотрим обстоятельства и факторы, создавшие негативный фон внутренней политики России до 1917 г., возможно, были объективные обстоятельства, подтверждающие тезис, что Российская империя была архаичным и неэффективным государством.
В дореформенный период царской России, безусловно, накапливалось социальное напряжение, вызванное крепостным правом, но и здесь всё неоднозначно. Одним из факторов, позволяющим выявить такой тренд, как постепенное повышение благосостояние простых тружеников, является, как ни странно, социальная политика самодержавия. В первую очередь это выразилось в ограничении прав помещиков в отношении крестьян, причём такая политика прослеживалась в деятельности Павла I, Александра I и Николая I. Нет сомнения, что крепостничество способствовало формированию командной экономики, авторитарных отношений в обществе и семье, сдерживало развитие городов, буржуазии, частной собственности, личных и политических свобод, препятствовало социальной мобильности (Миронов, 2012).
Одновременно с этим возникло особое состояние имперского бытия, при котором окраины государства оказались дорогим с точки зрения их содержания приобретением. Историк Б.Н. Миронов отмечал, что перемещение жизненных сил и материальных ценностей к окраинам и промышленным районам создавало в центре России особое угнетённое состояние, причем преимущественно в среде дворянского землевладения (Миронов, 2012).
Не менее интересная мысль встречается у исследователя относительно динамики зарплат промышленных и строительных рабочих. Со второй половины 1880-х гг. спрос на рабочую силу в России стал расти, своего апогея он достиг в 90-е гг. XIX в. Увеличение заработной платы, начавшееся с того момента, продолжилось и после событий 1905–1907 гг. В 1901–1913 гг. спрос на рабочую силу оставался высоким, что сопровождалось ростом оплаты труда (Миронов, 2012).
В канун столетнего юбилея Октябрьского переворота учёные Института социологии РАН задали россиянам вопросы о том, как революционные процессы сказались на истории страны и жизни семей участников опроса (имеется в виду цепь от предков к потомкам через временные отрезки прошлого и настоящего). Около трети участников исследования (32 %) затруднились ответить на вопрос, принес ли коммунистический эксперимент больше пользы или вреда. Примерно столько же респондентов (29 %) ответили, что данные категории сопоставимы. Мнения остальных опрошенных разделились: 19 % информантов уверены, что «минусов» в октябрьских событиях и их последствиях больше, а 21 % опрошенных делают акцент на «плюсах» произошедшего переворота. Относительно вопроса, кто совершил Октябрьскую революцию, преобладающим ответом был «Партия большевиков» (37 %), что соответствует мнению, разделяемому большинством учёных. Треть участников исследования (33 %) придерживаются советской версии этих событий: их ответы – «Рабочие и крестьяне», «Весь народ». Интересны и другие итоги данного исследования: по мнению 35 % россиян, стране не следует копировать чужой опыт, она должна идти своим путём; 30 % опрошенных считают, что обществу нужно научиться меняться с экономики, а не политической системы; 20 % респондентов опасаются концентрации власти в одних руках; в то же время 21 % участников опроса высказались о том, что нельзя жить без веры в Бога1.
В заключение можно констатировать следующее:
-
1. Революция в России опиралась, как и в Западной Европе в XVIII–XIX вв., на насилие; к сожалению, оно было распространённым элементом отношений между господствующими и подчинёнными группами, начиная с имперского периода; мировая война усилила насильственные инстинкты общества и снизила уровень моральных устоев. Нерешённость аграрного вопроса выступила катализатором намерений одной части общества по отношению к другой.
-
2. Принципиальной особенностью революции 1917 г. был её спонтанный характер. Как следует из воспоминаний современников, В. Ленин не верил в ближайшие перспективы осуществления революции в России; массовый социальный взрыв был инициирован ошибками в управлении, что выразилось в отрицательном снабжении столицы продовольствием, фактически большевики «оседлали» революционную стихию для воплощения своих авантюристических планов.
-
3. Современное население России в целом не разделяет идейные принципы и способы политической борьбы ультралевых деятелей прошлого, оно поддерживает буржуазно-консервативные ценности на сегодняшний день.
Список литературы Революционный и эволюционный пути развития: историко-философский анализ
- Березуев Е.А. Новейший империализм и роль поддержки населением имперской идеологии: социально-философский анализ // Общество: философия, история, культура. 2022. № 10 (102). С. 43-49. DOI: 10.24158/fik.2022.10.6 EDN: VESNJX
- Леонтьев К.Н. Византизм и славянство. М., 2007. 572 с. EDN: QWOFIJ
- Миронов Б.Н. Благосостояние населения и революции в имперской России. XVIII - нач. XX вв. М., 2012. 850 с. EDN: SDRRBD
- Монтескье Ш.Л. О духе законов. М., 1999. 672 с.
- Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 1993. 424 с.
- Пайпс Р. Русская революция: в 3 кн. М., 2005 а. Кн. 1. Агония старого режима. 1905-1917 гг. 480 с.
- Пайпс Р. Русская революция: в 3 кн. М., 2005 б. Кн. 3. Россия под большевиками. 1918-1924 гг. 428 с.
- Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре. М., 1998. 414 с.
- Фридрих К., Бжезинский З. Тоталитарная диктатура и автократия. М., 1993. 438 с.
- Шарп Дж. От диктатуры до демократии: стратегия и тактика освобождения. М., 2005. 84 с.