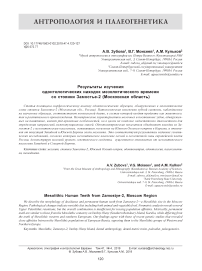Результаты изучения одонтологических находок мезолитического времени со стоянки Замостье-2 (Московская область)
Автор: Зубова А.В., Моисеев В.Г., Кульков А.М.
Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru
Рубрика: Антропология и палеогенетика
Статья в выпуске: 4 т.47, 2019 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена морфологическому анализу одонтологических образцов, обнаруженных в мезолитических слоях стоянки Замостье-2 (Московская обл., Россия). Патологические изменения зубной системы, наблюдаемые на изученных образцах, соответствуют комплексной диете, в состав которой входят продукты как животного, так и растительного происхождения. Неметрические характеристики молочных и постоянных зубов, обнаруженных на памятнике, имеют ряд архаичных особенностей, но в целом их комплекс недостаточно диагностичен для определения направлений межпопуляционных связей. Одонтометрические показатели объединяют находки из Замостья-2 с мезолитическим населением, оставившим могильник на Южном Оленьем острове в Карелии, и отличают от популяций Западной и Южной Европы эпохи мезолита. Это соответствует результатам недавних генетических исследований, согласно которым мезолитическое население лесной и лесостепной зоны европейской части России, демонстрируя высокий уровень генетического сходства, существенно отличается от мезолитического населения Западной и Северной Европы.
Мезолит, стоянка замостье-2, южный олений остров, одонтометрия, одонтология, палеогенетика, палеодиета
Короткий адрес: https://sciup.org/145145962
IDR: 145145962 | УДК: 572.77 | DOI: 10.17746/1563-0102.2019.47.4.120-127
Текст научной статьи Результаты изучения одонтологических находок мезолитического времени со стоянки Замостье-2 (Московская область)
Стоянка Замостье-2 расположена на севере Сергиево-Посадского р-на Московской обл., на левом берегу и в русле р. Дубна. Она была открыта в 1987 г., с 1989 г. на ней проводились полномасштабные раскопки под руководством В.М. Лозовского и О.В. Лозовской. С незначительными перерывами они продолжались вплоть до 2001 г., когда были приостановлены для обработки накопившегося материала, а затем возобновлены в 2009–2013 гг. [Лозовский, Лозовская, 2013, с. 6–8].
Культурные слои стоянки залегают в озерно-болотных отложениях на глубине 2–4 м от дневной поверхности и представляют собой последовательную смену органогенных сапропелевых отложений, в разной степени насыщенных торфом и макроостатками. На памятнике выявлено несколько культурных слоев, относящихся к позднему мезолиту, раннему и среднему неолиту. Нижний позднемезолитический датируется в пределах ок. 7000–6600 гг. до н.э., верхний – ок. 6400–6000, финальномезолитический – ок. 6000–5800 гг. до н.э. Ранненеолитический горизонт представлен о статками жилой площадки верхневолжской культуры, датируемой по материалам памятника 5800–5200 гг. до н.э. Слой среднего неолита относится к льяловской культуре и датируется ок. 4900–4300 гг. до н.э. [Лозовский и др., 2013, с. 18].
На памятнике была собрана небольшая коллекция палеоантропологических образцов, которые можно подразделить на две категории. Первая – молочные зубы, утраченные естественным путем и сохранившиеся в слоях поселения. Вторая – переотложенные разрозненные фрагменты ко стей черепов и посткраниальных скелетов взрослых людей. Поскольку на самой стоянке преднамеренных захоронений не обнаружено, можно предполагать, что где-то неподалеку находился могильник, размытый рекой, и эти фрагменты попадали сюда во время сезонных затоплений поселения.
Несмотря на то что находки мезолитического времени не со ставляют репрезентативной серии, они представляют большой интерес, т.к. палеоантропологические материалы эпохи мезолита на изучаемой территории ранее не были известны. Основной задачей данной работы является их детальное морфологическое описание, предварительное определение направлений популяционных связей, а также реконструкция общего состава рациона питания группы мезолитического населения, обитавшей на стоянке Замостье-2.
Материалы и методы
Одонтологическая коллекция мезолитического времени со стоянки Замостье-2 включает по одному фрагменту нижней и верхней челюстей взрослых индивидов, с зубами in situ, фрагмент нижней челюсти ребенка, также с зубами in situ, и четыре изолированных молочных зуба. Оценка числа индивидов, которым могли принадлежать эти находки, от четырех до семи. По костным останкам определяются три человека: молодая женщина, взрослый индивид (пол неопределим) и ребенок в возрасте 1,5– 2 лет. Изолированные молочные зубы были утрачены естественным путем в разном возрасте. Поэтому они могли принадлежать как одному ребенку, так и разным детям.
Все зубы были обследованы по нескольким программам описания неметрических характеристик коронок, принятым в России и за рубежом [Зубов, 2006; Зубов, Халдеева, 1993; Edgar, 2017]. Также определялись основные диаметры коронок и корней зубов. Для молочного второго моляра нижней челюсти ребенка была выполнена компьютерная микротомография. Зуб сканировался на рентгеновском микротомографе Skyscan-1172 при напряжении на трубке 100 кВ и силе тока 100 мкА без фильтра: шаг вращения 0,25°, усреднение по трем кадрам; разрешение 3,45 мкм/пиксель. На основании данных, реконструированных при помощи программного обеспечения NRecon (Bruker-microCT), в программе CTAn (Bruker-microCT) была построена цифровая 3D-модель и произведено виртуальное разделение дентина и эмали. Визуализация оцифрованной модели проводилась в программе CTVox (Bruker-microCT). На полученной 3D-модели была описана морфология эмалево-дентинной границы, измерена максимальная толщина латеральной эмали метаконида, определен объем латерального дентина и пульповой камеры (LDPV). Толщина эмали измерялась перпендикулярно вертикальной оси лингвальной поверхности метаконида, на вестибулолинг-вальном срезе, выполненном по линии, соединяющей вершины протоконида и метаконида. Определение LDPV проводилось согласно стандартному протоколу [Benazzi et al., 2011, Toussaint et al., 2010] при помощи программы CTAn.
Мезиодистальные и вестибулолингвальные диаметры верхнего первого и нижнего второго моляров челюстей взрослых индивидов были сопоставлены с индивидуальными характеристиками мезолитических и верхнепалеолитических находок c территории Германии, Франции, Швеции, Дании, Италии, Португалии, Сербии из открытой базы данных [Voisin et al., 2012], а также серии из мезолитического могильника онежской культуры на Южном Оленьем острове и верхнепалеолитических находок с территории европейской части России (неопубликованные данные А.В. Зубовой). Поскольку половую принадлежность одной челюсти определить невозможно, сравнительные данные привлекались суммарно, без учета пола.
Кроме морфологического анализа, было проведено палеопатологическое обследование имеющегося материала с целью получения данных, которые могли бы приблизительно охарактеризовать рацион питания группы. Программа включала регистрацию случаев кариеса, гипоплазии эмали, заболеваний тканей пародонта, прижизненной утраты зубов, зубного камня и прижизненных травм эмали.
Традиционно главным показателем состава диеты считается частота кариозных повреждений. Они возникают в результате деминерализации эмали в процессе бактериальной ферментации содержащихся в пище углеводов, которая ускоряется при употреблении мягкой, вязкой пищи [Lillie, 1996; Keenleyside, 2008; Larsen, Shavit, Griffin, 1991]. Важным маркером является также зубной камень. Он формируется вследствие минерализации бактериальных бляшек, прикрепляющихся к поверхности эмали. Строго определенной связи между составом диеты и развитием зубного камня не существует, но ряд исследований показал, что высокий процент зубного камня в комбинации с низкими частотами кариеса наблюдается в популяциях, в диете которых много протеина и мало углеводов. В земледельческих сообществах отмечается высокий процент обеих патологий.
Маркеры нарушений питания тканей пародонта учитывались как вспомогательный признак, присутствие которого может быть связано с развитием зубного камня или недостатком витаминов в рационе [Nazir, 2017; Strohm, Alt, 1998; Putten et al., 2009]. В качестве косвенного признака рассматривалась также линейная гипоплазия эмали, в большинстве биоар-хеологических работ учитываемая как показатель биологических стрессов в детском возрасте и недостатка пищевых ресурсов [Медникова, 2017, с. 80].
Морфологическое описание находок
В коллекции с памятника Замостье-2 к мезолитическому времени относятся образцы № 8, 9, 14, 17, 18, 20, 21*.
Образец № 8 (слой 7, кв. В3; датировка по слою 6500–6000 гг. до н.э., по кости 7663 ± 44 л.н. (KIA-51435)) – левая половина нижней челюсти женщины 18–20 лет. Сохранились альвеолы первого и второго премоляров, третьего моляра, первый и второй моляры in situ (рис. 1). Коронка первого моляра разрушена. Второй зуб четырехбугорковый, узор коронки «Y», эмалевый затек 6 баллов, протостилид балл 1. Tami, t6, дистальный и средний гребень тригонида, коленчатая складка метаконида, задняя ямка, центральный бугорок отсутствуют. Одонтоглифический узор представлен межбугорковыми фиссурами I–IV и бороздами 1 и 2med, 1 и 2prd, 1 и 2end. Одонтоглифика гипоконида стерта. Зафиксирована передняя ямка, одонтоглифи-ческий вариант 2med(II).
Корни сохранившихся зубов выступают из альвеол в среднем на 3,5–4,0 мм, что в целом не характерно для молодого возраста, но следов воспаления на фрагментах альвеолярного края не наблюдается, за исключением небольшого пороза в межзубном пространстве. На сохранившейся части коронки первого моляра, прилежащей к мезиальной плоскости второго, наблюдаются отложения зубного камня. На втором моляре они фиксируются в нижней трети коронки на всех плоскостях. На этом зубе также присутствует кариес в фиссуре III.
Образец № 9 (канава; датировка по слою 7000–6000 гг. до н.э.) – фрагмент правой половины верхнечелюстной кости индивида в возрасте 20– 30 лет. Сохранились альвеола первого резца, второй резец, клык, премоляры и первый моляр in situ (рис. 2). Латеральный резец характеризуется отсутствием лингвальной или вестибулярной лопатообразности, слабым развитием лингвального бугорка и наличием пальцевидных гребней. На клыке наблюдаются очень слабо выраженные краевые гребни лингвальной поверхности (лопатообразность, балл 0–1), пальцевидные и дополнительный дистальный гребни. На первом премоляре вестибулярный бугорок лишь немного больше лингвального, на втором они одинаковые по размерам. Гипоконус первого моляра не редуцирован, метаконус демонстрирует начальную стадию редукции. Косой гребень прерван. Присутствуют слабо выраженный бугорок Карабелли (балл 2), дополнительные дистальный и мезиальный бугорки. Одонтоглифика коронки стерта, передняя и задняя ямка, цингулярные образования отсутствуют. Затек эмали 5 баллов.
Корни сохранившихся зубов выступают из альвеол в среднем на 3–4 мм. На альвеолярном крае наблюдается порозность, свидетельствующая о нарушении питания околозубных тканей. На вестибулярной поверхности клыка и резца присутствует линейная гипоплазия эмали. В нижней трети коронки первого моляра также зафиксирована линейная деформация, охватывающая кольцом всю коронку. На ве стибу-лярной поверхности всех зубов и в межзубном пространстве присутствуют отложения зубного камня. На первом моляре в области центральной ямки кариес. На резце, клыке и первом премоляре наблюдаются прижизненные вертикальные сколы эмали.
Образец № 14 (слой 1, кв. В1) – нижняя челюсть ребенка в возрасте 1,5–2 лет (рис. 3). In situ находились оба первых моляра и левый второй в стадии прорезывания. Коронки первых моляров состоят из пяти бугорков с «Y»-типом контакта, гребень эпикристид,

Рис. 1. Нижняя челюсть, образец № 8.

Рис. 3. Нижняя челюсть ребенка, образец № 14.

0 3 cм
Рис. 2. Верхняя челюсть, образец № 9.
соединяющий бугорки тригонида, прерван межбугорковой фиссурой II. Одонтоглифический узор представлен глубокими межбугорковыми фиссурами I–V и бороздами, ограничивающими осевые гребни всех бугорков, кроме гипоконулида. Фиссуры I и V выходят на вестибулярную поверхность.
Второй левый моляр пятибугорковый, но одонто-глифическая дифференциация окклюзивной поверхности очень велика. Коронка состоит из пяти бугорков с «Х»-типом контакта. Одонтоглифический узор представлен межбугорковыми фиссурами I–V, бороздами 1 и 2 всех пяти бугорков. На метакониде и протокониде дополнительно фиксируются дублирующие борозды 2’med и 2’prd, на энтокониде – 3end. Дистальный гребень тригонида, эпикристид, коленчатая складка метаконида, протостилид, центральный бугорок, задняя ямка отсутствуют. Наблюдаются очень слабо выраженная ямка протостилида, передняя ямка, вариант 2med (fc), тип 2 соотношения точек впадения первых борозд метаконида и протоконида в фиссуру II.
Морфология эмалево-дентинной границы полностью соответствует строению внешней эмали коронки. Максимальная толщина латеральной эмали метаконида составляет 1,037 мм, объем латерального дентина и пульповой камеры 151 мм3.
Образец № 17 (слой 7, кв. А12; датировка по слою 6500–6000 гг. до н.э.) – коронка молочного верхнего правого второго моляра ребенка в возрасте 8–10 лет, судя по сильной стертости, ближе к 10 годам. Сохранился фрагмент корневой системы, идентифицируются три корня: два вестибулярных и один лингвальный. Гипоконус зуба заметно редуцирован, метаконус не демонстрирует признаков редукции. Одонтоглифи-ческий узор стерт. На интерпроксимальных поверхностях фиксируются отложения зубного камня, на гипоконусе – прижизненный скол эмали.
Образец № 18 (слой 7, кв. В12; датировка по слою 6500–6000 гг. до н.э.) – коронка молочного верхнего правого латерального резца ребенка в возрасте 6–7 лет. Сохранился прилежащий фрагмент цервикального отдела корневой системы длиной примерно 2,5 мм. Зуб умеренно стерт, на межзубных поверхностях и с вестибулярной стороны фиксируется зубной налет. Лингвальная и вестибулярная лопатообразность, лингвальный наклон коронки, дополнительные гребни отсутствуют.
Образец № 20 (слой 7, кв. А11; датировка по слою 6500–6000 гг. до н.э.) – молочный верхний левый первый резец ребенка в возрасте 5–6 лет. Присутствует выраженный лингвальный бугорок, отсутствуют пальцевидные гребни, лингвальная и вестибулярная лопатообразность. На зубе зафиксировано несколько микросколов на режущем крае и очаговая гипоплазия в форме вертикальной полосы недоформированной эмали 3,1 мм длиной и 1,6 мм шириной.
Образец № 21 (слой 7, кв. А11; датировка по слою 6500–6000 гг. до н.э.) – молочный нижний правый второй резец ребенка в возрасте 5–6 лет. На мезиальной и дистальной интерпроксимальных поверхностях наблюдаются отложения зубного камня. На вестибулярной поверхности режущего края зафиксировано несколько маленьких сколов эмали.
Обсуждение и выводы
Реконструкция рациона питания. У обоих индивидов, представленных постоянными зубами, был зафиксирован фиссурный кариес. Традиционно повышенная частота этой патологии используется как маркер земледельческой экономики. Считается, что в популяциях охотников-собирателей кариес отсутствует или встречается очень редко [Murphy et al., 2013, p. 2554; Turner, 1979, p. 623, tabl. 2]. Несмотря на то что это предположение в целом подтверждается среднемировыми данными, существует ряд исключений. В частности, повышенные частоты кариеса были зафиксированы у охотников-собирателей Западной Сибири эпохи ранней бронзы, которые, по данным изотопного анализа, активно употребляли в пищу местные дикорастущие растения с типом фотосинтеза С3 [Marchenko et al., 2015, tabl. 4; Марченко и др., 2016, с. 173; Зубова, Марченко, Гришин, 2016, табл. 1]. Археологических свидетельств распространения у мезолитического населения Верхневолжской низменно сти каких-либо земледельческих практик до сих пор не получено. Это позволяет предполагать, что в данном случае повышенная частота кариеса, как и в Западной Сибири, связана с общей комплексностью диеты, включающей не только мясную или рыбную пищу, но и местные растения. Их употребление подтверждается результатами ар-хеоботанических исследований, свидетельствующих о длительной традиции использования жителями стоянки местных ягод и фруктов [Бериуте, 2018, с. 47], а также изотопными данными [Медоуз, Лозовская, Моисеев, 2018]. Причиной вертикальных сколов эмали на клыках, резцах и премолярах могло быть разгрызание мелких костей или орехов [Lee et al., 2011, p. 971].
Популяционные связи группы. Общий набор неметрических признаков, зарегистрированных на постоянных зубах, недиагностичен. Единственное заключение, которое можно сделать на основании имеющихся данных, – констатировать отсутствие маркеров восточной направленности на латеральном верхнем резце и втором нижнем моляре. На верхнем резце и клыке зафиксировано присутствие пальцевидных гребней, а на клыке – дополнительного дистального гребня, что придает им архаичный облик.
Молочный нижний второй моляр (образец № 14), характеристики которого могут считаться ключевыми в ряду молочных и постоянных моляров [Farmer, Townsend; 1993, Bockmann, Hughes, Townsend, 2010], демонстрирует комбинацию нейтральных в таксономическом отношении черт (пятибугорковая форма, отсутствие маркеров восточной направленности) с архаичными элементами (сложность одонтоглифического узора, присутствие передней ямки). Вместе с тем пропорции внутренних тканей коронки весьма прогрессивны и полностью соответствуют параметрам современного европейского населения [Benazzi et al., 2011, tabl. 3]. У зуба максимальное значение индекса, характеризующего соотношение наибольшей толщины латеральной эмали метаконида и объема латерального дентина и пульповой камеры. Этот индекс имеет тенденцию к повышению с течением времени, поскольку толщина эмали увеличивается от более архаичных таксонов к менее архаичным, а объем дентина уменьшается [Ibid., p. 325]. По данным параметрам рассматриваемый моляр заметно отличается от верхнепалеолитических находок, изученных ранее, и сближается с другим мезолитическим образцом, из могильника онежской культуры на Южном Оленьем острове (табл. 1).
Метрические характеристики постоянных зубов (табл. 2) оказались более информативными для определения направлений популяционных связей группы из Замостья. Графики бивариантного распределения мезиодистальных и ве стибулолингвальных диаметров, построенные для верхнего первого и нижнего второго моляров, наглядно демонстрируют, что ближайшие аналогии их характеристикам находятся в серии из могильника на Южном Оленьем острове. Моляры погребенных в этом могильнике отличаются от большинства европейских находок заметно меньшими размерами (рис. 4, 5).
Суммарные различия между с ерией с Южного Оленьего острова и европейским населением эпох мезолита и палеолита статистически достоверны по трем
Таблица 1 . Пропорции внутренних тканей коронки молочных вторых моляров нижней челюсти из Замостья-2 и сравнительных образцов
|
Памятник |
LDPV |
MaxETH/ LDPV |
|
Костенки-14 (палеолит) |
192 |
0,47 |
|
Юдиново (палеолит) |
171,05 |
0,60 |
|
Южный Олений остров (мезолит) |
147,5 |
0,63 |
|
Замостье-2 (мезолит) |
151 |
0,68 |
Список литературы Результаты изучения одонтологических находок мезолитического времени со стоянки Замостье-2 (Московская область)
- Бериуэте М. Первые результаты археоботанического изучения колонки из разреза шурфа 2 // Стоянка Замостье 2 и развитие природной среды Волго-Окского междуречья в голоцене. – СПб.: ИИМК РАН, 2018. – С. 41–48.
- Зубов А.А. Методическое пособие по антропологическому анализу одонтологических материалов. – М.: ЭТНО-ОНЛАЙН, 2006. – 72 с.
- Зубов А.А., Халдеева Н.И. Одонтология в антропофенетике. – М.: Наука, 1993. – 224 с.
- Зубова А.В., Марченко Ж.В., Гришин А.Е. Структура питания носителей одиновской культуры Барабинской лесостепи (одонтологические данные) // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. – 2016. – № 3 (34). – С. 107–115.
- Лозовский В.М., Лозовская О.В. Исследования стоянки Замостье 2 в 1989–2013 гг. // Замостье 2: Озерное поселение древних рыболовов эпохи мезолита – неолита в бассейне Верхней Волги. – СПб.: ИИМК РАН. – 2013. – С. 6–17.
- Лозовский В.М., Лозовская О.В., Клементе-Конте И., Мэгро Й., Гиря Е.Ю., Раду В., Десс-Берсе Н., Гассьот Бальбе Э. Рыболовство эпохи позднего мезолита и раннего неолита по материалам исследований стоянки Замостье 2 // Замостье 2: Озерное поселение древних рыболовов эпхи мезолита – неолита в бассейне Верхней Волги. – СПб.: ИИМК РАН. – 2013. – С. 18–45.
- Марченко Ж.В., Панов В.С., Гришин А.Е., Зубова А.В. Реконструкция и динамика структуры питания одиновского населения Барабинской лесостепи на протяжении III тыс. до н.э.: Археологические и изотопные данные // Вестн. археологии, антропологии и этографии. – 2016. – № 3 (34). – С. 164–178.
- Медникова М.Б. Биоархеология детства в контексте раннеземледельческих культур Балкан, Кавказа и Ближнего Востока. – М.: Club Print, 2017. – 223 с.
- Медоуз Д., Лозовская О.В., Моисеев В.Г. Интерпретация мезолитических человеческих останков из Замостье 2 // Стратегии жизнеобеспечения в каменном веке, прямые и косвенные свидетельства рыболовства и собирательства: мат-лы междунар. конф., посвящ. 50-летию В.М. Лозовского. – СПб.: ИИМК РАН, 2018. – С. 206–207.
- Benazzi S., Fornai C., Bayle P., Coquerelle M., Kullmer O., Mallegni F., Weber G.W. Comparison of dental measurement systems for taxonomic assignment of Neanderthal and modern human lower second deciduous molars // J. of Hum. Evol. – 2011. – Vol. 61, iss. 3. – P. 320–326.
- Bockmann M.R., Hughes T.E., Townsend G. Genetic modeling of primary tooth emergence: a study of Australian twins // Twin Res. Hum. Gen. – 2010. – Vol. 13. – P. 573–581.
- Farmer V., Townsend G. Crown size variability in the deciduous dentition of South Australian children // Am. J. of Hum. Biol. – 1993. – Vol. 5. – P. 681–690.
- Edgar H. Dental Morphology for Anthropology: An Illustrated Manual. – N. Y.: Routledge, 2017. – 184 р.
- Keenleyside A. Dental pathology and diet at Apollonia, a Greek colony on the Black Sea // Intern. J. of Osteoarcheology. – 2008. – Vol. 18. – P. 262–279.
- Larsen C.S., Shavit R., Griffin M.C. Dental Caries Evidence for Dietary Change: An Archaeological Context // Advances in dental anthropology. – N. Y.: Wiley-Liss, 1991. – P. 179–202.
- Lillie M.C. Mesolithic and Neolithic populations of Ukraine: indications of diet from dental pathology // Current Anthropology. – 1996. – Vol. 37. – P. 135–142.
- Lee J., Constantino P., Lucas P., Lawn B. Fracture in teeth – a diagnostic for inferring bite force and tooth function // Biological Reviwes. – 2011. – Vol. 86. – P. 959–974.
- Marchenko Z.V., Orlova L.A., Panov V.S., Zubova A.V., Molodin V.I., Pozdnyakova O.A., Grishin A.E., Uslamin E.A. Paleodiet, Radiocarbon chronology, and the possibility of freshwater reservoir effect for Preobrazhenka 6 burial ground, Western Siberia. Preliminary results // Radiocarbon. – 2015. – Vol. 57, iss. 4. – P. 595–610.
- Mathieson I., Lazaridis I., Rohland N., Mallick S., Patterson N., Roodenberg S., Harney E., Stewardson K., Fernandes D., Novak M., Sirak K., Gamba C., Jones E.R., Llamas B., Dryomov S., Pickrell J., Arsuaga J.L., Bermúdez de Castro J.M., Carbonell E., Gerritsen F., Khokhlov A., Kuznetsov P., Lozano M., Meller H., Mochalov O., Moiseyev V., Rojo Guerra M., Roodenberg J., Vergès J-M., Krause J., Cooper A., Alt K.W., Brown D., Anthony D., Lalueza-Fox C., Haak W., Pinhasi R., Reich D. Genome-wide patterns of selection in 230 ancient Eurasians // Nature. – 2015. – Vol. 528. – P. 499–503.
- Murphy E.M., Schulting R., Beer N., Chistov Y., Kasparov A., Pshenitsyna M. Iron Age pastoral nomadism and agriculture in the eastern Eurasian steppe: implications from dental palaeopathology and stable carbon and nitrogenisotopes // J. of Archaeol. Sci. – 2013. – Vol. 40. – P. 2547–2560.
- Nazir M.A. Prevalence of periodontal disease, its association with systemic diseases and prevention // Intern. J. of Health Sciences (Qassim). – 2017. – Vol. 11, iss. 2. – P. 72–80.
- Putten G.J., van der, Vanobbergen J., De Visschere L., Schols J., Baat C., de. Association of some specifi c nutrient deficiencies with periodontal disease in elderly people: A systematic literature review // Nutrition. – 2009. – Vol. 25, iss. 7/8. – P. 717–722.
- Strohm T.F., Alt K.W. Periodontal Disease – Etiology, Classifi cation and Diagnosis // Dental Anthropology. – Vienna: Springer, 1998. – P. 227–246.
- Toussaint M., Olejniczak A., El Zaatari S., Cattelain P., Flas D., Letourneux C., Pirson S. The Neandertal lower right deciduous second molar from Trou de l’Abîme at Couvin, Belgium // J. of Hum. Evol. – 2010. – Vol. 58. – P. 56–67.
- Turner C.G. Dental anthropological indications of agriculture among the Jomon people of Central Japan // Am. J. of Phys. Anthropol. – 1979. – Vol. 51, iss. 4. – P. 619–635.
- Voisin J.-L., Condemi S., Wolpoff M., Frayer D. A new online database (http://anthropologicaldata.free.fr) and a short refl ection about the productive use of compiling internet data // PaleoAnthropology. – 2012. – P. 241−244.