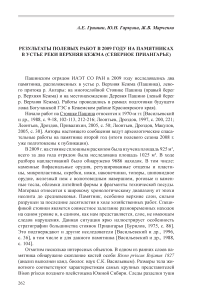Результаты полевых работ в 2009 году на памятниках в устье реки Верхняя Кежма (Северное Приангарье)
Автор: Гришин А.Е., Гаркуша Ю.Н., Марченко Ж.В.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья
Статья в выпуске: XV, 2009 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521528
IDR: 14521528
Текст статьи Результаты полевых работ в 2009 году на памятниках в устье реки Верхняя Кежма (Северное Приангарье)
Пашинским отрядом ИАЭТ СО РАН в 2009 году исследовались два памятника, расположенных в устье р. Верхняя Кежма (Пашинка), левого притока р. Ангары: на многослойной Стоянке Пашина (правый берег р. Верхняя Кежма) и на местонахождении Деревня Пашино (левый берег р. Верхняя Кежма). Работы проводились в рамках подготовки будущего ложа Богучанской ГЭС в Кежемском районе Красноярского края).
Начало работ на Стоянке Пашина относится к 1970-м гг. [Васильевский и др., 1988, с. 9-18, 102-113, 212-216; Леонтьев, Дроздов, 1997, с. 200, 221; Леонтьев, Дроздов, Привалихин, 2005, с. 50; Леонтьев, Дроздов, Макулов, 2005, с. 30]. Авторы настоящего сообщения ведут археологические спасательные работы на памятнике второй год (итоги полевого сезона 2008 г. уже подготовлены к публикации).
В 2009 г. на стоянке сплошным раскопом была изучена площадь 925 м2, всего за два года отрядом была исследована площадь 1025 м2. В ходе разбора напластований было обнаружено 9686 находок. В том числе: каменные бифасиальные орудия, ретушированные отщепы и пластины, микропластины, скребки, ножи, наконечники, топоры, шиповидное орудие, железный нож с волютовидным навершием, роговые и каменные тесла, обломки литейной формы и фрагменты технической посуды. Материал относится к широкому хронологическому диапазону от эпохи неолита до средневековья. Памятник, особенно верхние слои, сильно разрушен за последние десятилетия в ходе хозяйственных работ. Спецификой стоянки является совместное залегание разновременных находок на одном уровне и, в едином, как нам представляется, слое, не имеющем следов нарушения. Данная ситуация ярко иллюстрирует особенность стратиграфии большинства стоянок Приангарья [Бурилов, 1975, с. 86]. Это подтверждают и другие исследователи [Васильевский и др., 1996, с. 36], в том числе и для данного памятника [Васильевский и др., 1988, с. 104].
Отметим несколько интересных объектов. В одном из ранних слоев памятника обнаружено скопление костей особи Bison priscus Bojanus 1827 (анализ выполнен канд. биолог. наук С.К. Васильевым). Размеры тела животного соответствуют характеристикам самых крупных представителей Bi^^on pri^^cu^^ позднего плейстоцена Южной Сибири. Следы разделки туши 262
на костях не обнаружены. Тем не менее, среди костей найдены каменные предметы: пластина, микропластина и три отщепа.
Изучены три непотревоженных погребения (№4-6). На дне неглубокой могильной ямы №4 находился скелет взрослого человека. Судя по положению костей, умерший был уложен вытянуто на спину, головой на восток-северо-восток. На грудной клетке найдены два костяных и один каменный наконечники стрел. На черепе располагались бочковидные бронзовые бусины, являющиеся остатком украшения прически или головного убора (рис. 1 – 1 ). Нам известно о четырех подобных бусинах, обнаруженных на стоянке Сергушкин-3 и отнесённых автором раскопок к раннему железному веку [Привалихин, 1993, с. 16]. В погребальных комплексах Енисейского Приангарья такие бусы также встречаются в единичных экземплярах [Мандрыка, 2008. с. 120]. Погребение №5, по всей видимости, являлось ингумацией в небольшую яму скелетированных останков взрослого индивидуума: черепа и фрагментов двух длинных костей руки и ноги. Сверху на останки были положены два камня средних размеров. Вещей с погребенным не обнаружено. Могила №6 также оказалась безинвентарной, поза взрослого погребенного и характеристики ямы в целом аналогичны погребению №4. По всей видимости, нами обнаружено продолжение некрополя раннего железного века, выявленного ранее [Дроздов и др., 2005].
Среди многочисленных свидетельств железоделательного производства (участков переотложенного прокаленного грунта, фрагментов крицы,
Рис. 1. Бронзовые бусины из погребения 4 Стоянки Пашина ( 1 ); фрагменты керамики из конструкции, раскоп 1, Деревня Пашино ( 2–4 ).
шлака, глиняной обмазки печей, обломков технологической посуды) на стоянке обнаружена не разобранная в древности металлургическая печь . Она представляла собой круглую в плане яму диаметром 0,4 м. Глубина сохранившейся части – 0,5 м. Стенки были покрыты глиняной обмазкой. Часть обмазки в верхней части имела небольшой отрицательный наклон. Возможно, это основание разрушившейся надземной глиняной трубы. На дне ямы зафиксирован канал для слива металла. Заполнение печи выглядело следующим образом (снизу - вверх). На самом дне – кусок выплавленного железа (1,5 кг). На одном с ним уровне и чуть выше – насыщенно черная супесь с углистыми включениями и каплями кричного железа, а также несгоревшие крупные фрагменты древесины (топливо). Выше – куски шлака и шлака с губчатым железом (металл-крица).
Исследованный объект являлся простейшим металлургическим горном для получения жидкого и кричного железа. По классификации А.В. Гладилина он принадлежит ко второму виду металлургических печей Северного Приангарья, которые по аналогии с сооружениями Минусинской котловины и верховий Ангары датируются V–IV вв. д о н.э. [Гладилин, 1985, с. 10]. Ранее на памятнике была изучена печь – «домница» I тыс. н. э. [Леон тьев, Дроздов, 2005]. По своим конструктивным особенностям (наземная, с выкладкой из каменных плит) она отличается от исследованного нами сооружения.
Местонахождение Деревня Пашино было известно только по подъемному материалу. Поэтому работы 2009 года явились началом полномасштабного стационарного исследования объекта. Главной задачей являлось определение границ памятника и степени сохранности культурных слоёв. Была проведена шурфовка участков памятника и заложен небольшой раскоп (4х4 м). Общая площадь шурфов и раскопа составила 129 м2. Всего на памятнике обнаружено 3389 находок. В раскопе выявлена часть котлована конструкции эпохи неолита – раннего металла .
Раскоп расположен на уплощенном участке пойменной террасы. Археологические материалы выявлены при разборе пяти верхних горизонтов, но находятся в переотложенном состоянии в силу антропогенных и естественных причин. При зачистке по уровню 6-го горизонта, на глубине 1,1–1,2 м от современной поверхности была зафиксирована часть древнего слабоуглубленного котлована. Котлован имел чёткие границы, маркированные углистыми прослойками с мелкими фрагментами сгоревшего дерева и единичными расположенными под наклоном или на ребре мелкими плитками сланца. Основное заполнение котлована – желтовато-серая песчаная супесь с многочисленными точечными углистыми остатками, включающая сажистые прослойки. Данный слой содержит артефакты расположенные in ^^ i tu . Вдо л ь западной ст е нки ра с копа, у зкой полосой располагался слой коричневато-желто-серой, однородной песчаной супеси, в которой также присутствовали расположенные in ^^itu артефак т ы, но в гор а здо мен ьш ей концентрации. Вероятно, слой маркирует периферию культурного слоя в 264
котловане. В придонной части стенки пологие, выше, вероятно были вертикальными, дно ровное, плоское. При зачистке дна были выявлены три ямы хозяйственного назначения.
На дне сооружения располагались скопления отщепов и чешуек, каменные орудия (скребки, отщепы с ретушью, наконечники стрел, тёсла) и развалы двух сосудов. Керамика баночной формы с приостренным дном характеризуется сплошной орнаментацией внешней поверхности (рис. 1 – 2 – 3 ). Орнамент - горизонтальные ряды отпечатков лопатки, ногтя, гладкого штампа, опоясывающие поверхность сосуда. Для зоны венчика характерен ряд ямочных вдавлений. Ближайшие аналогии присутствуют в ранее исследованных, неолитических материалах Стоянки Пашина [Васильевский и др. 1988, с. 111–113]. В керамическом комплексе сооружения есть фрагмент венчика с «зооморфным» налепом (рис. 1 – 2 ). Аналогичная керамика встречается в эпоху неолита и бронзы в лесной полосе Зауралья и Западной Сибири [напр.: Кирюшин, Малолетко, 1979, с. 69, рис. 31, 11, 14 ; Кирюшин, 2004, рис. 155–158; Мошинская, 1976, с. 28, рис. 28, 1 ].
К сожалению, по исследованной части котлована нельзя достоверно говорить о многих характеристиках и особенностях сооружения. Насколько нам известно, это пока единственная конструкция эпохи неолита – раннего металла, достоверно зафиксированная в Северном Приангарье.