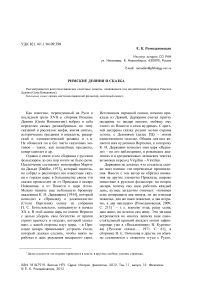Римские деяния и сказка
Автор: Ромодановская Елена Константиновна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Древнерусская литература и книга
Статья в выпуске: 12 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются восточнославянские сказочные сюжеты, появившиеся под воздействием сборника Римские Деяния (Gesta Romanorum).
Сказка, восточнославянский фольклор, сказочный сюжет
Короткий адрес: https://sciup.org/14737714
IDR: 14737714 | УДК: 821.161.1’04.09:398
Текст научной статьи Римские деяния и сказка
Как известно, переведенный на Руси в последней трети XVII в. сборник Римские Деяния (Gesta Romanorum) вобрал в себя переделки самых разнообразных по типу сказаний и рассказов: мифы, жития святых, исторические предания и анекдоты, рыцарский и эллинистический романы и т. п. Не обошелся он и без чисто сказочных мотивов – таких, как волшебные предметы, ковер-самолет и др.
Однако о связи этого сборника с русским фольклором до сих пор почти не было речи. Исключение составляет монография Мартина Дальке [Dahlke, 1973], который тщательно собрал и рассмотрел все известные сказки о гордом царе; в большинстве своем эти сказки происходят не от Приклада о цесаре Иовениане, а от Повести о царе Аггее. Можно назвать еще небольшую брошюру академика К. Н. Державина [1944], который возводил к «Прикладу о досконалости» (Столп Вергилия) сказку из собрания П. С. Богословского, записанную в начале XX в. В этой сказке царь по имени Верзило с целью уберечь свое богатство от врагов строит крепость и «идола», который указывает, с какой стороны идут воры, – в Прикладе цесарь приказывает устроить столп, который должен следить, чтобы никто не работал в день рождения цесарского сына.
Источником пермской сказки, помимо приклада из Деяний, Державин считал притчу цесаревы «о цесаре некоем, любящу ему злато» из Повести о семи мудрецах. С притчей цесаревы сказку роднит мотив охраны золота, с Деяниями (далее РД) – мотив единственного «идола». Общим для них является имя кудесника Вергилия, к которому К. Н. Державин возводит имя царя «Верзи-ло» – по его наблюдению, в романских диалектах и в средневековых латинских текстах возможен переход Virgilius – Virzilius.
Державин не доказал, что создатель сказки знал именно эти переводные произведения. Вместе с тем автор не обратил внимания на другие элементы Приклада, широко известные в русском фольклоре: на вопрос цесаря, почему ему надо работать каждый день, кузнец загадочно отвечает: «повинен есмь возвращати два пенязя, их же измлада пожичал, два же паки пожичам, а два истра-чю, а два накладам» [Ромодановская, 2009. С. 213] 1 – т. е. кормлю отца, ращу сына, даю жене, на остаток сам живу. Эти загадки встречаются во многих записях (как самостоятельный краткий анекдот мотив зафиксирован уже в «Письмовнике» Н. Курганова) [Русские сказки…, 1971. С. 61], в сборнике Н. Е. Ончукова и других он обычно соединяется с сюжетом «гуси с Руси», когда крестьянин за расшифровку загадки перед царем обирает бояр или других царедворцев.
Судя по указателю сказочных сюжетов [Сравнительный указатель…, 1979] 2, в русских РД помимо названных можно найти еще десять сюжетов, зафиксированных в восточнославянском фольклоре. Сразу встают вопросы: как связаны они с текстами кодекса, является ли переводной памятник источником той или иной сказки, насколько они были известны и каков ареал их распространения.
Мое сообщение носит предварительный характер, и я в данное время оставляю в стороне те группы текстов, сюжеты которых широко известны и вне Деяний. Имеются в виду сказки о волшебных предметах, о испытании жены, о проверке того, кто лучший друг, о лучшем сне. Основной интерес, на мой взгляд, представляют приклады, сюжеты которых до появления РД на Руси не были известны. Повлиял ли этот перевод на репертуар русской сказки, как повлиял на развитие литературной беллетристики? Рассмотрим некоторые сюжеты.
В основе «Приклада о невдячности чело-вечестей з добродейств приятых» (с. 249– 253) лежит мировой сюжет «благодарные звери» (СУС 160), иногда называемый «звери в яме». Такие сюжеты широко известны в мировой литературе: бедняк спасает из ямы-ловушки провалившегося туда богача и трех зверей (в РД – обезьяну, льва и змея); богач (староста, придворный) отказывает ему в обещанной награде и велит гнать его и бить, звери же награждают каждый по-своему. Сюжет этот во всех литературах бытует по большей части в письменном виде [Костюхин, 1987. С. 125]. Эта ситуация характерна и для восточнославянского фольклора: зафиксировано всего три сказочных записи – украинская, белорусская и русская. В белорусской версии [Federowski, 1902. № 47] льва заменяет медведь, а староста не попадает в яму, но гонит и бьет бедняка, пришедшего просить милостыни у царя. Русская сказка – не совсем русская: она записана в Башкирии от выходца из Белоруссии, каторый перенял ее от башкирского рассказчика [Шмаков, 1977]; там действует богач Исмагил, а звери – лиса, медведь и змей – приходят на суд живыми свидетеля- ми 3. Во всех сказках и Прикладе совпадает лишь один мотив: змей дарит драгоценный камень, который бедняк приносит царю (в башкирской записи – продает на базаре), благодаря чему тот узнает правду и вершит правый суд над богачом.
Тема благодарного зверя присутствует и в «Прикладе, чтобы мы помнили добродей-ства, нам учиненные» (с. 331–333); этот сюжет обычно называется «заноза в лапе» (СУС 156): рыцарь во время охоты встречает хромого льва и вынимает «терн из ноги его»; через некоторое время рыцарь чем-то прогневал цесаря, и тот велит бросить его на съедение льву, но голодный зверь не только не трогает его, но и охраняет в течение семи дней.
Этот сюжет известен в античной литературе под названием «Лев Андрокла» и вошел во все европейские школьные хрестоматии. На Руси он неизвестен до XVII в., впервые появившись с переводом РД 4; в древнерусской литературе бытовала другая разновидность сюжета – об авве Герасиме и льве. Ни та, ни другая версия в русском фольклоре не встречается – это чисто книжные произведения, в украинском же обычно рассказывается о том, как баба вынула занозу у медведя, а он отблагодарил ее медом [Barącz, 1886. S. 143] 5.
«Приклад о двою лекарях» (с. 297–299) имеет несомненные параллели с сюжетом «три доктора» (СУС 660): и там, и здесь вынутый лекарем орган (глаз, рука, сердце и т. п.) заменен органом животного, и человек начинает вести себя как это животное. Однако совершается все совершенно иначе: в Прикладе два лекаря, в сказке – три; в Прикладе они совершают операцию друг над другом, в сказке – над самими собой или над пьяными мужиками; в Прикладе вынутый глаз уносит ворон, в сказке съедает кошка или свинья, и т. д. Не совпадает ни одна деталь между двумя рассказами, притом что есть сказочные записи как русские
[Сказки Саратовской области, 1937. С. 106– 107] 6, так и украинская и белорусская.
«Приклад, что всяк грех неведением бывает отпущен» (с. 328–330) является пересказом распространенного на Западе Жития св. Юлиана (см.: [Веселовский, 1938]), которому предсказано, что он убьет своих родителей; попытки избежать судьбы не помогают, и герой в покаянии строит странноприимный дом и помогает всем, перебирающимся через глубокую реку, пока не получает прощения. Среди сказок на сюжет «убийца родителей» (СУС 756F**) зарегистрирован лишь один украинский вариант [Kolberg, 1889], где изменена концовка: в знак покаяния сын сжигает себя, затем возрождается и возвращается к ожившим родителям.
Как видим, все четыре рассмотренных приклада имеют чрезвычайно малое распространение в фольклоре, особенно в русском, но обязательно зафиксированы в белорусском и украинском. На это следует обратить внимание: можно думать, что в последних они имели более крепкую основу, обусловленную, вероятно, и польским влиянием. Существенно также, что все эти приклады не имеют самостоятельной рукописной традиции – они переписываются лишь в составе кодекса; правда, широко распространена в рукописях совпадающая по сюжету с Прикладом о невдячности «Повесть о некоем дворецком и о насельнике».
Среди оригинальных сюжетов РД более популярным представляется сюжет «Приклада, чтобы мы чистоту и веру брака соблюдали» (с. 304–397). Он входит в группу сказок о верной жене (СУС 882А*). По Прикладу умелый тесля (плотник) женится на дочери некоего рыцаря, а мать девицы дарит ему волшебную рубашку, которая не потребует стирки все время, пока супруги будут верны друг другу. Через некоторое время тесля уезжает строить «терем» для короля и там рассказывает о свойствах своей рубахи, после чего три рыцаря «с двора королевскаго» один за другим отправляются соблазнять его жену. Всех она запирает «в каморе» и держит на хлебе и воде, пока не возвращается муж.
Этот сюжет получил распространение, хотя и ограниченное, на Русском Севере и в Сибири. Он зафиксирован в сборниках О. Э. Озаровской [2000. С. 134–139], Н. И. Рождественской [Сказы и сказки Бе-ломорья, 1941. № 26], М. В. Красноженовой [Сказки Красноярского края, 1937. № 21], сборнике «Сказки из разных мест Сибири» [1928]; последний текст перепечатан М. К. Аза-довским в сборнике «Русская сказка: Избранные мастера» [1932. С. 167–183]. Известны также белорусский [Federowski, 1903] и украинский [Moszyńska, 1885] варианты. Мотив черных пятен на белой одежде при неправедном поведении отмечен и в сказве из сборника Н. В. Ончукова «Царевич и купеческая дочь» [Северные сказки…, 1908].
В сказках, как правило, сюжет обогащен мотивом работы соблазнителей: жена не только держит их в подполе, но и заставляет прясть, если хотят получить добрую пищу (иногда в указателях его называют «женихи за прялкой»). Действующими лицами там обычно являются купцы. В сборнике Оза-ровской сюжет о непачкающейся рубашке объединяется с сюжетом, известным по древнерусской повести о Карпе Сутулове: хитрая жена одновременно прячет в сундук попа, благочинного и архиерея, выставляя их потом на позор. Наиболее близок РД текст из сборника «Сказы и сказки Беломо-рья и Пинежья» (записи Н. И. Рождественской), где действует некий царь, посылающий для испытания героини короля и «прынца». В других сказках появляются студенты и даже «американец», все одинаково терпят поражение.
Комментируя данную группу сказок, М. К. Азадовский писал о том, что этот сюжет «принадлежит к числу довольно редких в русском материале», потому что «тема спора о верности жены разрабатывается в наших сказках иначе» [Сказки Красноярского края, 1937. С. 276]. По его мысли, основными здесь, помимо «Карпа Сутулова», являются сюжеты «Оклеветанная жена» и «Муж, заложившийся о добродетели своей жены» [Русская сказка, 1932]. Там же он пересказал, со ссылкой на труд Больте и Поливки, сюжет рассматриваемого приклада как известного в западных версиях [Там же]. Текст из РД им никак не учитывался, хотя уже существовало издание русского перевода [Римские Деяния, 1878]. Мне ду- мается, что в данном случае источником сюжета послужил именно перевод Деяний.
Отдаленное влияние Деяний можно отметить и в сказке, опубликованной Н. А. Иваницким, на сюжет «пустынник и ангел» [1890] (СУС 796*). Там, правда, действует не пустынник, а крестьянин, выполняющий обет после болезни. Ему встречается странник, который совершает ряд странных поступков: крадет драгоценный кубок, убивает младенца, отдает медведю корову бедной вдовы, дарит кубок скупому богачу. Все эти моменты сближают рассказ именно с Деяниями, а не с версией Миней Четьих, как можно было бы предположить 7. Однако этот текст контаминирован с двумя другими сюжетами: о том, «кто съел просфору» (СУС 785), и о том, как св. Никола ходил по земле. Именно последний сюжет доминирует, поэтому публикатор совершенно справедливо приводит соответствующие параллели из других сборников.
Как видим, перевод Римских Деяний оказал чрезвычайно мало влияния на развитие русской устной словесности. Шире он был известен на Украине и в Белоруссии. Все отмеченные сказки имеют белорусские и украинские версии, а некоторые («убийца родителей», СУС 756F**) – только украинские; по-видимому, это связано с большей известностью там не только русского, но и польского сборника. Однако картина жизни сборника в целом в этих землях пока не известна (насколько я знаю, им предполагали заняться сначала А. А. Назаревский, а затем В. И. Крекотень, но оба не успели это выполнить; где теперь находятся собранные ими материалы, я не знаю).
Что же касается русских сказок, то стоит обратить внимание на ареал их распространения. Это прежде всего Русский Север и Сибирь, исторически тесно с ним связанная. Объяснить это можно сопоставлением со сведениями о распространении списков РД. Судя по записям, кодекс, помимо Москвы, жил прежде всего именно на Русском Севере: Антониево-Сийский монастырь (БАН, Арханг. собр., Д 420), Вологда (ГПНТБ, собр. Тихомирова № 316), Соловки (ИРЛИ, собр. Перетца, № 375) (именно с Соловков происходят два самых ранних списка Вто- рой редакции РД (РНБ, Соловецкое собр., № 242/242 и 865/975), и можно думать, что там она и была создана) и, наконец, Великий Устюг (ГИМ, Муз. 2961), где создана особая Великоустюжская редакция (РГБ, Великоустюжское собр., № 59). Последний следует отметить особо, поскольку он является важнейшим пунктом передачи культурных ценностей в Сибирь, впрочем, как и другие районы Русского Севера.
Наблюдения и выводы о характере связей переводного сборника с русским фольклором будут корректироваться по мере рассмотрения других сюжетов. Но это – задача будущего.
GESTA ROMANORUM AND TALE
The paper presents the East Slavic tales, which appeared under the influence of the Gesta Romanorum collection. Keywords : tale, East Slavic folklore, fairy story, reading, version, Gesta Romanorum.