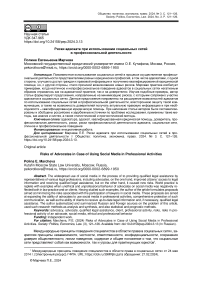Риски адвоката при использовании социальных сетей в профессиональной деятельности
Автор: Марчева П.Е.
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 3, 2024 года.
Бесплатный доступ
Повсеместное использование социальных сетей в процессе осуществления профессиональной деятельности представителями разных юридических профессий, в том числе адвокатами, с одной стороны, улучшило доступ граждан к правовой информации и получению квалифицированной юридической помощи, но, с другой стороны, стало причиной возникновения новых рисков. Мировая практика изобилует примерами, когда неэтичное и непрофессиональное поведение адвокатов в социальных сетях негативным образом отражалось как на адвокатской практике, так и на доверителях. Изучив подобные примеры, автор статьи формулирует предложения, направленные на минимизацию рисков, с которыми сопряжено участие адвокатов в социальных сетях. Данные предложения направлены на расширение возможностей адвокатов по использованию социальных сетей в профессиональной деятельности, всестороннюю защиту такой коммуникации, а также на возможность доверителей получать актуальную правовую информацию и при необходимости - квалифицированную юридическую помощь. При написании статьи автором были систематизированы и обобщены российские и зарубежные источники по проблеме исследования, применены такие методы, как анализ и синтез, а также статистический и прогностический методы.
Адвокатура, адвокат, квалифицированная юридическая помощь, доверитель, профессиональная деятельность, риски, риски профессиональной деятельности адвоката, социальные сети, этичное и профессиональное поведение
Короткий адрес: https://sciup.org/149145323
IDR: 149145323 | УДК: 347.965 | DOI: 10.24158/pep.2024.3.13
Текст научной статьи Риски адвоката при использовании социальных сетей в профессиональной деятельности
,
Международные принципы поведения специалистов в области права в социальных сетях, закрепляя принципы независимости, честности, ответственности, конфиденциальности, сохранения доверия общественности, линии поведения, содержат и общее положение о том, что социальные сети представляют собой как возможности, так и угрозы для практикующих юристов1.
Рост использования социальных сетей представителями юридической профессии имеет множество потенциальных преимуществ, включая улучшение доступа общественности к правовой информации и правосудию. Однако это расширяет и круг ситуаций, в которых юристы могут нарушить стандарты профессионального и этичного поведения, что негативным образом может отразиться на их репутации и повлечь за собой новые профессиональные риски, одним из которых является репутационный риск.
Активное использование социальных сетей адвокатами имеет значительные последствия для их этичного и профессионального поведения во всем мире. В течение последних нескольких лет наблюдается определенный глобальный прогресс в части развития ожиданий, касающихся профессиональной технологической компетентности, руководящих принципов работы с социальными сетями и обучения адвокатов. Однако во многих юрисдикциях еще многое предстоит сделать для установления электронного профессионализма и этичного использования социальных сетей представителями юридической профессии (Burns, Corbin, 2016: 154).
Существует множество примеров неправомерного поведения адвокатов при использовании социальных сетей и СМИ: как решения по делам, так и заголовки новостей «изобилуют примерами предполагаемых проступков, неосмотрительного поведения и правовых проблем, возникающих из-за контента … в социальных сетях» (Vinson, 2010: 355, 389). К ним относятся: расистские посты, посты с преследованием, размещение непристойных фотографий, например, в состоянии алкогольного опьянения, а также посты, которые подрывают репутацию профессии адвоката; посты, которые могут непреднамеренно создать отношения между адвокатом и доверителем в режиме онлайн; посты, нарушающие конфиденциальность доверителя; использование социальных сетей для сбора доказательств в судебном процессе или информации о потенциальных присяжных заседателях; использование социальных сетей для попыток установления неподобающих социальных отношений с доверителями; неприемлемое общение с третьими лицами; использование социальных сетей для рекламы, нарушающей профессиональные рекомендации по ее использованию (Lanctot, 2015: 75–76).
Так, в соответствии с решением по делу № 12264-2021 от 20 января 2022 г., вынесенным Дисциплинарным трибуналом по делам солиситоров Англии в рамках иска Органа по регулированию деятельности солиситоров против солиситора А. (Solicitors Regulation Authority (SRA) v A. Solicitor), солиситор-ответчик была временно отстранена от практики на шесть месяцев за серьезные профессиональные нарушения. Один из согласованных фактов (хотя и не обязательно относящийся к самому серьезному обвинению) был связан с тем, что солиситор разместила на странице своей фирмы в социальной сети неточную и вводящую в заблуждение информацию о том, что она и ее фирма добились определенных результатов для доверителей. Эти утверждения не соответствовали действительности.
Решение суда (о «согласованном результате») и «Заявление о согласованных фактах» (10 января 2022 г.) размещены в открытом доступе на веб-сайте Дисциплинарного трибунала. Неправомерные действия солиситора, по-видимому, были результатом непродуманности, а не попыткой обмануть. Такой проступок представляет собой неспособность действовать добросовестно и поддерживать доверие, которое общество оказывает профессии (Принципы 2 и 6 Кодекса поведения SRA 2011 г.)1.
В США адвокаты сталкивались с этическими проблемами из-за того, что делали посты в социальных сетях о деле, предавали доверие клиента своими публикациями, критиковали судью в блогах и размещали твиты со ссылками на закрытые документы (Browning, 2010: 149–163). Даже адвокаты, одержавшие победу в деле, обнаруживали, что их сообщения в социальных сетях о времени, потраченном на ведение дела, и другие публикации запрашивались в ходе после-судебного спора о гонораре адвоката2. Было выпущено несколько заключений ассоциаций юристов, посвященных этическим вопросам, возникающим в связи с использованием адвокатом социальных сетей в ходе расследования и судебного разбирательства по делу3.
В различных юрисдикциях было зафиксировано множество случаев, когда адвокаты или сотрудники юридических фирм якобы нарушали свои нормативные обязательства в результате неуместных комментариев в социальных сетях.
Например, в Гонконге вопрос о том, сделаны ли такие комментарии в ходе профессиональной практики или в рамках независимой коммерческой деятельности адвоката, зависит от фактических обстоятельств и решается в каждой конкретной ситуации. Однако даже в тех случаях, когда речь не идет о профессиональном поведении, репутационный риск для работодателя или сотрудника, возникающий в результате неуместных комментариев в социальных сетях, очевиден1.
В настоящее время для общественности есть один из самых доступных способов получить непосредственное представление о судебных процессах, особенно в странах, где в залах судебных заседаний запрещена телевизионная съемка, – это прямые трансляции из зала суда. Несмотря на то что ведение живых блогов представляет собой важный способ обеспечения прозрачности и открытости судебных процессов и документов – принцип, известный как открытость правосудия и являющийся ключевым компонентом многих демократических обществ, – риски, связанные с открытием судебных процессов не только для более непосредственного и детального изучения, но и для более широкой виртуальной аудитории, менее известны. Шведские ученые Лиза Флауэр и Мари-Софи Ахлефельд опубликовали в 2021 г. результаты исследования о влиянии репортажей с судебных заседаний на деятельность профессиональных участников процесса. Оно было основано на результатах 24 экспертных интервью с судьями, прокурорами и адвокатами по уголовным делам из Швеции и Дании (Flower, Ahlefeldt, 2021: 1480–1496).
Исследователи установили следующее: ведение живых блогов воспринимается специалистами в области права в позитивном ключе – как поддержка открытости правосудия и возросший уровень наблюдения за судебными процессами, который обеспечивают живые блоги. Однако это влечет за собой более проблематичные последствия, связанные с обеспечением верховенства права и влияющие различным образом на то, как изображаются профессиональные участники процесса. Таким образом, не смотря на то что средства массовой информации играют центральную роль в «формировании общественного знания и содействии общественному контролю над правосудием» (Moran, 2014: 143–166; Resnick, 2013: 77–119), существуют риски, связанные с превращением уголовного процесса в непосредственное событие для широкой аудитории, которые требуют дальнейшего внимания для более полного понимания негативных последствий такой наглядности и прозрачности.
В частности, данное исследование показало, что живые блоги могут использоваться профессиональными участниками процесса в качестве маркетинговых инструментов, которые, в свою очередь, рискуют дать неточное представление о судебных процессах и участвующих в них юристах широкой общественности, которая, как выяснилось, во многих странах остается крайне неосведомленной (Fox, Rose, 2014: 771–798). Как отметил в ходе интервью датский адвокат Йенс: «многие адвокаты в судебном заседании просто громко кричат и жалуются как можно больше (...) они делают это в качестве маркетинговой стратегии как для действующего, так и будущих клиентов, и очевидно, что этот эффект может усилиться, если в судебном заседании кем-то ведется живой блог, потому что тогда могут появиться другие потенциальные клиенты, которые прочитают в блоге, что у подсудимого есть адвокат, который действительно борется за дело (...). Таким образом, это может стать способом рекламы для менее честных или плохих адвокатов (Flower, Ahlefeldt, 2021: 1488).
Следует обратить внимание на еще один риск, связанный с участием адвоката в социальных сетях. Это риск раскрытия конфиденциальной информации о доверителе и о его правовой проблеме.
В том случае, если адвокат «пожалуется» на свою каждодневную работу или расскажет другим о своей компетентности и успехах в конкретных делах, то нельзя исключить, что некоторые из этих историй будут содержать достаточно информации для того, чтобы собеседник мог догадаться, о каком именно доверителе или деле идет речь, даже если адвокат не называет конкретных имен или очевидных фактов. Исторически сложилось так, что подобные небрежные и «случайные» раскрытия информации происходили в закрытых группах во время устных бесед, что снижало вероятность распространения таких сведений и их использование теми, кто желал нанести вред доверителю. При письменном общении в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» такие сведения могут легко распространиться и стать чрезвычайно опасными не только для доверителя, но и для целостности правовой системы. Так, в США ярким примером чрезмерного распространения информации стал случай с помощницей государственного защитника в штате Иллинойс. Она разместила в своем блоге конфиденциальную информацию о доверителях, называя их по имени и фамилии, а также раскрыла информацию, касающуюся употребления доверителем наркотиков1. Менее возмутительная, но все же недопустимая ситуация была связана с публикацией в блоге: «доверитель только что солгал мне о важном факте. Я ненавижу, когда они так поступают» (Smith, 2012: 7). Такое сообщение может «раскрыть конфиденциальность, поскольку в сообщении указаны дата и время, и читатель вполне может определить, с каким именно доверителем [адвокат] встречался» (Smith, 2012: 7).
Активная деятельность адвокатов в социальных сетях в настоящее время обусловлена тем, что под давлением общественного мнения защита старается повлиять на решение по делу. Теоретически говоря, когда судебные органы рассматривают дела, они должны брать за основу факты и придерживаться закона как критерия их оценки. Общественное мнение не должно и не может стать фактором, влияющим на решение по делу. Однако с точки зрения судебной практики общественное мнение часто может в определенной степени повлиять на исход дела. Сталкиваясь с давлением общественного мнения, решение суда может быть подвергнуто сомнению со стороны общественности, даже если суд следовал положениям закона, взял за основу фактические обстоятельства дела, использовал закон в качестве критерия оценки и вынес решение в соответствии с законом.
В Российской Федерации адвокаты также могут пострадать из-за допущенных ими неосмотрительных комментариев в социальной сети и в процессе коммуникации со СМИ. Такие дела, как правило, получают широкую огласку, демонстрируя неподобающее этичное и профессиональное поведение.
Г.С. Девяткин, анализируя правила поведения адвоката в сети Интернет, обращал внимание на еще один риск, а именно: взлом и размещение на странице адвоката «провокационной информации, способной нанести вред его деловой репутации либо привести к более серьезным последствиям» (Девяткин, 2016: 11). Подробный анализ рисков профессиональной деятельности адвоката, связанных с киберпреступлениями, и предлагаемые мероприятия по снижению этих рисков, в том числе разработка Стандарта деятельности адвоката в цифровом пространстве, были проведены ранее (Марчева, 2024: 122–126).
В своем исследовании Г.С. Девяткин также сформулировал ряд выводов и действенных мер, направленных на защиту присутствия адвоката в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Несмотря на то что эти выводы и предложения были сформулированы автором еще в 2016 г., они остаются актуальными. Однако, по нашему мнению, некоторые из предложений должны быть трансформированы с учетом реалий настоящего времени. Так, например, по мнению Г.С. Девяткина, необходимо обязать адвокатов «предоставлять в адвокатскую палату соответствующего субъекта сведения о наличии аккаунтов в той или иной социальной сети» с целью аккумулирования «страницы адвокатов в определенную базу, к которой будут иметь доступ доверители, чтобы при необходимости обращаться к конкретному адвокату, используя возможности социальных сетей» (Девяткин, 2016: 11). Безусловно, данное предложение целесообразно в настоящее время ввиду широкого использования социальных сетей, в том числе адвокатами в профессиональной деятельности. Вместе с тем, современные возможности, в частности, создаваемые при поддержке ФПА РФ онлайн-платформы, а также интернет-сайты и группы в социальных сетях2, где может происходить дистанционная коммуникация адвоката с доверителем, достаточны. Поэтому, по нашему мнению, следует минимизировать использование адвокатами в целях профессиональных коммуникаций сторонних личных аккаунтов, не связанных с вышеупомянутыми платформами, интернет-сайтами и группами. При использовании социальных сетей адвокатам следует быть предусмотрительными, соблюдать положения международных актов, а также внутренних нормативных правовых и корпоративных актов в области адвокатской деятельности. Как справедливо отмечает В.В. Клювгант, «поведение адвоката в социальных сетях, как форма его публичной активности, должно отвечать тем же требованиям, что и любая другая публичная активность»3.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:
-
1. Адвокату в своей профессиональной деятельности необходимо строго соблюдать правила поведения, содержащиеся в Международных актах, Кодексе профессиональной этики адвоката, а также иных корпоративных актах адвокатского сообщества независимо от того, осуществляет ли он профессиональную деятельность очно или с использованием современных технологических возможностей, в том числе социальных сетей.
-
2. С целью минимизации рисков профессиональной деятельности при использовании личных аккаунтов в социальных сетях адвокатам следует размещать в них только личную информацию о себе, не связанную с профессиональной деятельностью. Что касается информации о возможности предоставления и о предоставляемой квалифицированной юридической помощи, то она должна быть размещена только на сайтах адвокатских образований, а также на интернет-сайтах и онлайн-платформах, создаваемых при поддержке ФПА РФ.
-
3. Разработка Стандарта деятельности адвоката в цифровом пространстве, безусловно, будет минимизировать риски, связанные с развитием технологий, с которыми сталкиваются адвокаты в процессе осуществления своей профессиональной деятельности.
Список литературы Риски адвоката при использовании социальных сетей в профессиональной деятельности
- Девяткин Г.С. Актуальные вопросы правил поведения адвоката в сети «Интернет» // Мир науки и образования. 2016. № 3 (7). [Без пагинации]. Марчева П.Е. Способы снижения рисков адвокатской деятельности в цифровую эпоху // Теория и практика общественного развития, 2024. № 2. С. 122–126. https://doi.org/10.24158/ti-por.2024.2.16.
- Browning J. The Lawyer’s Guide to Social Networking: Understanding Social Media’s Impact on the Law. Eagan, 2010. 232 p.
- Burns K., Corbin L. E-Professionalism: The Global Reach of the Lawyer’s Duty to Use Social Media Ethically // Journal of the professional lawyer. 2016. P. 153–171.
- Flower L., Ahlefeldt M.-S. The criminal trial as a live event: Exploring how and why live blogs change the professional practices of judges, defence lawyers and prosecutors // Media, Culture & Society. 2021. Vol. 43, no. 8. P. 1480–1496. https://doi.org/10.1177/01634437211022730.
- Fox R., Rose M. Public engagement with the criminal justice system in the age of social media // Oñati Socio-Legal Series. 2014. Vol. 4, no. 4. P. 771–798.
- Lanctot C. Becoming a Competent 21st Century Legal Ethics Professor: Everything You Always Wanted to Know About Technology (But Were Afraid to Ask) // Journal of the Professional Lawyer, Forthcoming, Villanova Law. 2015. No. 2015–1001. P. 1–56.
- Moran L. Mass-mediated “open justice”: Court and judicial reports in the press in England and Wales // Legal Studies. 2014. Vol. 34, no. 1. P. 143–166. https://doi.org/10.1111/lest.12011.
- Resnick J. The democracy in courts: Jeremy Bentham, “publicity”, and the privatization of process in the twenty-first century // An Interdisciplinary Journal or Law and Justice. 2013. Vol. 10, no. 1. P. 77–119.
- Smith M.С. Social Media Update // The Advocat (Texas). 2012. Vol. 58. P. 2–7.
- Vinson K. The Blurred Boundaries of Social Networking in the Legal Field: Just “Face” It // University of Memphis Law Review. 2010. Vol. 41. P. 355–415. https://doi.org/10.2139/ssrn.1666462.