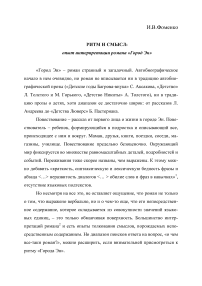Ритм и смысл: опыт интерпретации романа "Город эн"
Автор: Фоменко Игорь Владимирович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Статьи и сообщения. Прочтения
Статья в выпуске: 2 (7), 2008 года.
Бесплатный доступ
Автобиографическая проза, леонид добычин, повествование, ритм
Короткий адрес: https://sciup.org/14914136
IDR: 14914136 | УДК: 81
Текст статьи Ритм и смысл: опыт интерпретации романа "Город эн"
«Город Эн» – роман странный и загадочный. Автобиографическое начало в нем очевидно, но роман не вписывается ни в традицию автобиографической прозы («Детские годы Багрова-внука» С. Аксакова, «Детство» Л. Толстого и М. Горького, «Детство Никиты» А. Толстого), ни в традицию прозы о детях, хотя диапазон ее достаточно широк: от рассказов Л. Андреева до «Детства Люверс» Б. Пастернака.
Повествование – рассказ от первого лица о жизни в городе Эн. Повествователь – ребенок, формирующийся в подростка и описывающий все, происходящее с ним и вокруг. Маман, друзья, книги, поездки, соседи, магазины, училище. Повествование предельно безоценочно. Окружающий мир фиксируется во множестве равномасштабных деталей, подробностей и событий. Переживания тоже скорее названы, чем выражены. К этому можно добавить «краткость, синтаксическую и лексическую бедность фразы и абзаца <…> неразвитость диалогов <… > обилие слов и фраз в кавычках»1, отсутствие языковых подтекстов.
Но несмотря на все это, не оставляет ощущение, что роман не только о том, что выражено вербально, но и о чем-то еще, что его непосредственное содержание, которое складывается из совокупности значений языковых единиц, – это только обманчивая поверхность. Большинство интерпретаций романа2 и есть опыты толкования смыслов, порождаемых непо- средственным содержанием. Но диапазон поисков ответа на вопрос, «о чем все-таки роман?», можно расширить, если внимательней присмотреться к ритму «Города Эн».
Особенности ритма романа уже привлекали внимание3. Не раз, в частности, так или иначе, поминались его стиховое начало, странная соотнесенность бытового содержания вербального текста и метризованных структур, естественно, возникало имя А. Белого, открывшего новые возможности ритма прозы и повлиявшего на литературный процесс и т.д. Но мне неизвестны работы, в которых ритм рассматривался бы как смыслообразующее начало романа. Между тем, эта функция ритма заслуживает пристального внимания уже потому, что в романе отдельные приемы ритмической организации прозы сложились в необычную и самодостаточную систему.
В основе этой системы лежит соотношение слов и слогов (возможно, это и есть системообразующий принцип). Вообще-то соотношение величины слов и количества ударений – основа метрической организации стиха, а не прозы. На это впервые обратил внимание Н.Г. Чернышевский. Рецензируя анненковское издание Пушкина4, он подсчитал, что в прозаическом тексте на 351 слог приходится 118 ударений, и сделал вывод, что одно ударение в русском языке приходится в среднем на три слога. Так был установлен слоговой объем русского слова и сделан вывод о том, что в просодию русского языка идеально вписываются трехсложники, в которых одно среднестатистическое ударение приходится на одно среднестатистическое слово, а не двусложники, где пропуски ударений обусловлены слоговым объемом слова5.
К роману Добычина это имеет самое прямое отношение. Он написан в прозе, тем не менее, в основе его ритма лежит жесткая статистическая закономерность, как в стихе: средняя величина слова в романе ≈ 2 (2.09) слога, 1 ударение приходится в среднем на ≈ 3 (3.16) слога. Таким образом, мерность речи определяется тяготением слов к двусложности, нарушающей норму и потому ощутимой на ее фоне, а естественность и легкость – ударениями, воспроизводящими просодию русской речи. Эта тенденция – мерность и естественность речи, закрепленная в синтаксическом строе, – сохраняется на протяжении всего романа, не нарушаясь даже прямой речью, которая «вписана» в повествование, а не вынесена на отдельную строку.
Понятно, что среднестатистический показатель (величина слова тяготеет к двум слогам, а одно ударение приходится на три слога) говорит только об общей тенденции. Реальный речевой поток развертывается как система вариаций этих параметров и, оставаясь прозой, спонтанно порождает случайные метры.
« Сморкаясь, нас обогнала внушительная дама в меховом воротнике и, поднеся к глазам пенснэ, благожелательно взглянула на нас». « Я был польщен, что он так мило встретил нас». «Он подослал к ней Ивановну, отставную монахиню, – ту, которой Кондратьева в прошлом году отдавала стегать одеяла, – и спрашивал, как бы маман отнеслась к нему, если бы он прибыл к ней с предложением» 6.
Однако ударения, которые расставлял сам автор, позволяют предположить, что метризация была не только спонтанной. По подсчетам А.Ф. Белоусова, 85% ударений, расставленных Л. Добычиным в «Городе Эн» служат для акцентуации текста7, в частности, образуя случайные метры.
«Я принялся убеждать его, чтобы он перешел в православие , и он нАчал меня избегать ». « Он пОдал две маленьких дыни и объявил, что Кара-мановы приехали». Я подумал об Андрее с «чертАми лица» и о том, что предосудительно в присутствии друга вспоминать о других». «Составительница этого письма ждалА ответа, сидя на скамейке перед домом, и когда я вышел за ворОта, встала ».
Определяя особенности ритма прозы, М.М. Гиршман показал, что одно из принципиальных его отличий от ритма стихотворного состоит в том, что стихотворный ритм уже дан поэту заранее, а ритм прозаической речи формируется по мере развертывания дискурса8. Это, кроме всего про- чего, значит, что ритм прозы чутко реагирует не только на прямую речь (графически это закрепляется тем, что каждая реплика выносится на отдельную строку), но и на характер эпизода (событие, описание, отступление и т.д.). Ритм в романе Добычина с этой точки зрения необычен: ритмическая тенденция задана самим автором (как в прозе), но сохраняется без изменений с начала и до конца (как в стихах).
В первой главе, дающей установку на восприятие ритма всего высказывания, метризовано более 40% текста (см. таблицу)9. Все авторские ударения создают случайные метры или оттеняют их по контрасту. Именно в этой главе за счет сочетания синтагм задается общая ритмическая плавность10. В предложениях доминируют регулярные синтагмы, которые поддерживают устойчивость и неизменность ритмической основы (они составляют от 52% до 73%). Каждое предложение развертывается как сочетание одинаковых (малая–малая, регулярная–регулярная, большая– большая) или рядоположенных (малая–регулярная, регулярная–большая) синтагм. На стыках предложений этот принцип сохраняется. Монотонность снимается за счет вариативности их сочетаний (малая–регулярная– большая / большая–регулярная–малая ). И только в 7% сочетаний соседствуют малые и большие синтагмы без «переходной» для них регулярной, на фоне 93%, обеспечивающих устойчивость и плавность, они создают вариативность развертывания ритма и деавтоматизируют его11.
В первой главе задан и визуальный облик страницы12. На фоне визуальной нормы (вся страница заполнена одинаково полно и графически выделяется только прямая речь) страница романа представляет собой отдельные сегменты, разделенные пробелами. Этот прием уже использовали и А. Белый, и А. Ремизов, и В. Розанов, чтобы графически воплотить мысль о калейдоскопичности жизни, об отсутствии логических связей в мире, о самодостаточности каждого явления бытия. Как паралингвистический прием13 использует пробелы в «Городе Эн» и Добычин. Но в системе рит- мического строя его романа они играют еще и роль эквивалентов строфических пауз.
Итак, за счет доминирования двусложных слов создается мерность, а за счет ударений – плавность речи, которые естественно порождают метризацию. На синтаксическом уровне мерность и плавность поддерживаются синтаксической простотой предложений, состоящих из одинаковых или рядоположенных синтагм. На сверхфразовом (сегмент) уровне предложения они соотносятся между собой так же, как синтагмы в предложении. Визуально страница выглядит как проза, организованная по принципу строфического текста. Иными словами, ритм романа – это ритм прозы, организованный по законам стиха.
Здесь и возникает вопрос: как и почему ритмическая организация, свойственная стиху, не вступает в противоречие с предельно бытовым содержанием, насыщенным реалиями двинской жизни14, то есть прозой в самом широком значении этого слова. Противоречие между стихотворным ритмом и бытовым содержанием настолько мощный смыслообразующий фактор, что его обычно используют при пародировании. Классический пример – эпизод из «Золотого теленка»:
«На лестнице стоял Васисуалий Лоханкин. <…>
– Милости просим, – сказал инженер…
– Я к вам пришел навеки поселиться, – ответил Лоханкин гробовым ямбом, – надеюсь я найти у вас приют. <…> Уж дома нет… Сгорел до основанья. Пожар, пожар погнал меня сюда. Спасти успел я только одеяло и книгу спас любимую притом. Но раз вы так со мной жестокосердны, уйду я прочь и прокляну притом»15.
В «Городе Эн» ритм не только не противоречит бытовому содержанию, но напротив, как в стихе, подчиняет себе слово, превращая «прозу жизни» в «поэзию жизни».
Вполне возможно, что это было сознательной авторской установкой. Косвенным доказательством такого предположения может быть та роль, которую играют в романе Добычина «Мертвые души» Гоголя. Среди обширного круга чтения только «Мертвые души» получают особый статус. О них чаще, чем обо всех остальных книгах, говорит и пишет повествователь. И всякий раз отсылка к «Мертвым душам» характеризует не столько гоголевский роман, сколько самого повествователя, его мироощущение: «Я пожал Сержу руку: – Мы с тобой – как Манилов и Чичиков. – Он не читал про них. Я рассказал ему, как они подружились и как им хотелось жить вместе и вдвоем заниматься науками»; «Мы могли бы купить себе бричку и покатить в город Эн. Там нас полюбили бы. Я подружился бы там с Фе-мистоклюсом и Алкидом Маниловыми». И опять: «… Мы, если выиграем (по лотерее – И.Ф. ), то уедем в Эн, где нас будут любить»; «Слыхал ли ты, Серж, будто Чичиков и все жители города Эн и Манилов – мерзавцы? Нас этому учат в училище. Я посмеялся над этим»; «Я стоял, как Манилов»; «Я думал о городе Эн, о Манилове с Чичиковым, вспоминал свое детство».
Кроме прямых отсылок, роман полон аллюзиями на гоголевский гротеск («В конце лета случилась беда с мадам Штраус. Ей на голову упал медный окорок, и она умерла на глазах капельмейстера Шмидта, который стоял с ней у входа в колбасную») и гоголевскую же иронию (начальник «был на митинге и решил не ходить туда больше, потому что, пока он там был, он там чувствовал, что соглашается с непозволительными рассуждениями. Мы похвалили его»), все дамы в романе – просто приятные или приятные во всех отношениях.
Диалог с Гоголем очевиден. Добычин тоже пишет о городе Эн (или о том же городе Эн) и тоже «поэму», в которой соединяются (должны соединиться) эпическая широта и лиризм как пафос. Только у него пафос закреплен не в авторском голосе (как у Гоголя), а в ритме, основанном на законах стихотворной речи. Гоголь писал о настоящем, Добычин – о том, что было, об ушедшей провинции, которая теперь, на фоне начала 30-х годов видится совсем не гоголевской. Это не полемика с Гоголем. Это прошлое, увиденное из настоящего.
В рассказе А. Платонова «Фро», написанном примерно в это же время, есть строки, которые можно бы сейчас поставить эпиграфом к «Городу Эн»:
«Отец успокоил ее:
– Ну, какая же ты мещанка!.. Теперь их нет, они умерли давно. Тебе до мещанки еще долго жить и учиться нужно: те хорошие женщины были»16.
Провинция Добычина наивная, занятая своими делами, живущая своей жизнью. Здесь своя социальная иерархия («Я удивился, узнав среди них (ассенизаторов – И.Ф. ) Осипа, что когда-то учился со мной у Горшковой. Он тоже заметил меня, но не стал со мной здороваться. Первым же я в этот вечер не захотел поклониться ему») и своя иерархия ценностей («Как светло на душе, – подойдя к нему (отцу – И.Ф. ) и беря его за руку, сказала маман. – Отчего это? Уж не двести ли тысяч мы выиграли?»). Явления одномасштабны: «… Ольга Кускова водила нас в лес. Один раз мы дошли до железной дороги и увидели поезд с солдатами. Он катил к Крейцбургу. Из пассжирских вагонов смотрели на нас офицеры. – “Карательная», – пояснила нам Ольга Кускова”»; «Надо больше есть риса, – говорила теперь за обедом маман, – и тогда будешь сильным. Японцы едят один рис – и смотри, как они побеждают нас»; «Я вспоминаю, – сказала она, – девятьсот пятый год. Это было ужасно. Тогда люди были нахальны, как звери». При всей наивности последнего суждения, в нем отчетливо выявлена одна фундаментальная черта добычинской провинции: жизнь и история измеряются не событиями, а тем, как чувствует и ведет себя человек.
«Поэмность» как воспевание описываемого проявляется и в том, что город Эн населен людьми странными, до смешного наивно выражающими высокие порывы (учитель словесности, сочинивший оду), живущими только бытом, житейскими мелочами, но добрыми, отзывчивыми, с уважением относящимися к «другому» (если понимать это слово по М. Бахтину). Единственный агрессивный персонаж («попечитель учебного округа») и тот оказывается дегенератом и маньяком.
Здесь много читают (круг чтения, статус литературы, отношение к писателям в городе Эн – отдельная тема) и странно судят о прочитанном: «… Я читал Достоевского. Он потрясал меня, и за обедом маман говорила, что я – как ошпаренный»; «Я много читаю. Два раза уже прочел “Достоевского”. Чем он мне нравится, Серж, это тем, что в нем много смешного».
Человек здесь, насколько это возможно, независим. Долженствование (кто-то должен что-то делать потому что… ) сведено к минимуму: причинные отношения составляют лишь 0,44% от всех остальных. Целенаправленных действий как сознательных волевых усилий в два раза больше (0,9%). Это значит, человек делает то, что хочет, а не то, что почему-то должен делать17.
Движение здесь свободно. Все много ходят и ездят в гости (гоголевский мотив дороги?), и даже далекие поездки не тяжелы, потому, что все пространство состоит из системы частных пространств, скорее оконтуренных, чем разграниченных. Это даже не пространства, а «места» (именно так часто именует их автор). Нет границ между провинцией и столицами: в Москве те же люди, что и в городе Эн («Я приехал в Москву в полуоттепель. <…> Там мне встретилась Ольга Кускова. И она <…> обещала явиться к Карамановым»).
Нет границ и между «своим» и «чужим» пространствами18. «Чужого» пространства в романе нет вообще. Все пространство – «свое». Вся Россия была провинцией, о которой можно рассказать только в «поэме».
Если именно так прочесть добычинский роман, то новые смыслы обретает и финал, о котором писалось уже не раз. Надев очки, повествова- тель увидел мир по-другому и «стал думать о том, что до этого все, что <...> видел <...> видел неправильно». «Правильно» видя мир, Добычин напишет «Диких». И в первом же абзаце точно обозначит исходную позицию: «Все это было уже после революции, но тогда, когда идиотизм деревенской жизни еще не был уничтожен коллективизацией, которая тогда еще имела малое распространение». И ритм будет другим – не «поэмным», и ирония не гоголевской.
-
1 Щеглов Ю.К. Заметки о прозе Л. Добычина // Леонид Добычин: «Город Эн». Даугавпилс, 2007. С. 279–280.
-
2 Королев С.И. Библиографический указатель // Добычинский сборник. Вып. 3. Даугавпилс, 2001; Его же. Библиографический указатель // Добычинский сборник. Вып. 4. Даугавпилс, 2004; Федоров Ф.П. Слово о Добычине // Леонид Добычин: «Город Эн». Даугавпилс, 2007.
-
3 Орлицкий Ю.Б. Метр в прозе Леонида Добычина // Вторые Добычинские чтения. Ч. 1. Даугавпилс, 1994.
-
4 Чернышевский Н.Г. Сочинения А.С. Пушкина. Изд. П.В. Анненкова // Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений: В 15 т. Т. 2. Статьи и рецензии. 1853–1855 . М, 1949.
-
5 Эта статья вызвала саркастическую реакцию В. Набокова, увидевшего в ней, прежде всего и единственно, протест «демократа», «по семинарской памяти» не понимающего ни «аристократизма и антологичности ямба», ни «ритма русской прозы» ( Набоков В.В. Дар. Ардис, 1975. С. 270–271). Что касается стиховедов, для них было и остается принципиально важным открытие Чернышевского. Б.В. Томашевский: «Важно замечание Чернышевского, что этот факт (наличие пропусков метрических ударений в двухсложных размерах и отсутствие в трехсложных. – В. X. ) лежит в связи с законами практического языка. Изучение метрики при свете знания практического языка - вот важная задача, на которую указал Чернышевский» (цит. по: Холшевников В.Е. Стиховедение и математика // Содружество наук и тайны творчества. М., 1968. С. 384). В.Е. Холшевни-ков: «Он (Чернышевский – И.Ф ) вывел закон: одно ударение приходится в русском языке в среднем на три слога. Этим соотношением Чернышевский объяснил основные особенности русских двухсложных и трехсложных размеров… Найденное Чернышевским соотношение просодии языка и форм стиха лежит в основе русской метрики» (Там же. С. 385). О.И. Федотов: Чернышевским «был установлен слоговой объем русского фонетического слова… К сожалению, Чернышевский поторопился с выводом, заявив, что трехсложники более свойственны русской поэзии, чем двусложники. Видимо, эта проблема волновала критика именно тогда, когда в творчестве Некрасова, Фета, Полонского и др., казалось бы, было поколеблено безраздельное господство двуслож-ников. На самом деле эксперимент Чернышевского показал, что двусложники далеко не идеально приспособлены к просодии русского языка и пропуски ударений на сильных местах предуказаны слоговым объемом фонетического слова» ( Федотов О.И. Основы русского стихосложения. Теория и история русского стиха: В 2 кн. Кн. 1. Метрика и ритмика. М., 2002. С. 220).
-
6 Здесь и далее роман цитируется по: Добычин Л.И. Город Эн // Добычин Л.И. Полное собрание сочинений и писем. СПб.,1999.
-
7 Белоусов А.Ф. Озвучение текста в прозе Л. Добычина // Russian Literature. 1 July 1999. T. XLYI (1).
-
8 «В стихе ритмическая закономерность выступает как единый исходный принцип развертывания речи, который изначально задан и вновь и вновь возвращается в каждой следующей вариации. В прозе же ритмическое единство – итог, результат речевого развертывания» ( Гиршман М.М. Художественная проза // Литературный сборник. Вып. 4. Донецк, 2000. С. 196).
-
9 Среднестатистические показатели величины слова, метризации и распределения ударений в первой главе по сегментам.
Сегмент
количест
во слов
количест
во
слогов
средняя величина
слова
Метризова-но слов
ударения
всего
Одно ударение на количество
слов
слогов
1
56
126
2.25
37 (66%)
39
1.43
3.23
2
49
100
1.96
19 (38,7%)
30
1.63
3.33
3
56
124
2.04
25 (44,6%)
36
1.55
3.44
4
80
164
2.21
39 (48,7%)
54
1.48
3.03
5
43
106
2.46
22 (51,1%)
32
1.34
3.31
6
49
89
1.81
24 (49%)
37
1.32
2.4
7
43
98
2.27
15 (42,8%)
34
1.26
2.88
8
84
176
2.09
36 (42,8%)
53
1.58
3.32
9
78
172
2.2
31 (39,7%)
56
1.39
3.07
10
28
62
2.21
8 (28,5%)
19
1.47
3.26
11
39
77
1.97
17 (43,6%)
24
1.62
3.2
итого
605
1294
2.13
273 (44,4%)
414
1.46
3.12
-
10 Синтагма, – писал Л.В. Щерба, – это «фонетическое единство, выражающее единое смысловое целое в процессе речи-мысли…» ( Щерба Л.В. Фонетика французского языка. М., 1948. С. 85).
Б.В. Томашевский предположил, что именно синтагмы и есть единицы ритма в прозе, и, подчеркивая именно эту их роль, ввел понятие «колон» ( Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика. М., 1996). По подсчетам М.М. Гиршмана, в художественной прозе доминируют колоны объемом от пяти до десяти слогов (преимущественно 7– 8-сложные), которые он назвал регулярными, выделив по отношению к регулярным еще малые синтагмы (до пяти слогов) и большие (свыше десяти слогов). Чередование и сочетание регулярных, малых и больших колонов и порождают ритм прозаической речи.
-
11 Соотношение малых, регулярных и больших синтагм (колонов) в I главе:
синагмы
всего
из них метризованно
«сбои»
малые
16 %
26%
11.5 % от общего количества сочетаний
регулярные
65 %
38.5%
большие
19 %
31%
Сочетание синтагм в I главе*
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||
|
М |
РРМР |
МБРМРБ |
РБ |
РМР |
РРМ |
|||||||
|
РРРРРБ |
МБР |
РБ |
РРР |
Б |
М |
|||||||
|
Р |
БМРР |
РРРР |
МБМР |
РРР |
РР |
|||||||
|
БР |
ММРРРМ |
РБ |
МР |
РРР |
РРР |
|||||||
|
Р |
БР |
РБМ |
РМ |
|||||||||
|
МБРМ |
РР |
РРР |
Р |
|||||||||
|
РР |
Б РР Б |
РРРР |
||||||||||
|
Р |
||||||||||||
|
Б |
||||||||||||
|
Р Р |
||||||||||||
|
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||||||
|
РРРР |
Б |
РР |
ББРР |
РМ |
||||||||
|
Р |
Р |
РРРР |
МРРММ |
РМР |
||||||||
|
РР |
МРРМ |
Р |
РР |
|||||||||
|
РР |
Р |
МРР |
МРМ |
|||||||||
|
РМБМР |
РБ |
РРРР |
РР |
|||||||||
|
Р |
МРР |
РБ |
МР |
|||||||||
|
РРБ |
РРР |
|||||||||||
|
РБР |
РР |
|||||||||||
|
Р |
БР |
|||||||||||
|
РБМР |
РР |
|||||||||||
1 столбец – порядковый номер сегмента, отделенного от других пробелом. 2 столбец – сочетание синтагм в отдельных предложениях сегмента. М – малая синтагма, Р – регулярная синтагма, Б – большая синтагма. Каждая строка – отдельное предложение.
Как и в этой главе, во всем романе доминируют предложения, состоящие из 1 – 4 синтагм. Расхождения в определении величины каждой данной синтагмы неизбежны, так как синтагма не имеет формально маркированных границ. Однако, как показал эксперимент, это никак не влияет на установление общей тенденции.
-
12 Семьян Т.Ф. Визуальный облик прозаического текста. Челябинск, 2006.
-
13 Шубина Н.Л. Паралингвистические средства в письменном тексте и их функции // Художественный текст. Аспекты сверхфразовой организации. СПб., 1997.
-
14 См. об этом подробно: Белоусов А.Ф. Примечания. Комментарии // Леонид Добычин: «Город Эн». Даугавпилс, 2007.
-
15 Ильф И., Петров Е. Золотой теленок; Двенадцать стульев. Рига, 1991. С. 473–474.
-
16 Платонов А.П. Фро // Платонов А. Собр. соч.: В 3 т. Т. 2. М., 1985. С. 131.
-
17 Интересно было бы сопоставить причинность в «Городе Эн» с фоном – советской литературой конца 20-х – начала 30-х годов.
-
18 Лотман Ю.М. Проблема художественного пространства в прозе Гоголя // Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 3 т. Т. 1. Таллин, 1992.
Список литературы Ритм и смысл: опыт интерпретации романа "Город эн"
- Щеглов Ю.К. Заметки о прозе Л. Добычина//Леонид Добычин: «Город Эн». Даугавпилс, 2007. С. 279-280.
- Королев С.И. Библиографический указатель//Добычинский сборник. Вып. 3. Даугавпилс, 2001.
- Королев С.И. Библиографический указатель//Добычинский сборник. Вып. 4. Даугавпилс, 2004.
- Федоров Ф.П. Слово о Добычине//Леонид Добычин: «Город Эн». Даугавпилс, 2007.
- Орлицкий Ю.Б. Метр в прозе Леонида Добычина//Вторые Добычинские чтения. Ч. 1. Даугавпилс, 1994.
- Чернышевский Н.Г. Сочинения А.С. Пушкина. Изд. П.В. Анненкова//Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений: В 15 т. Т. 2. Статьи и рецензии. 1853-1855. М, 1949.
- Набоков В.В. Дар. Ардис, 1975. С. 270-271.
- Холшевников В.Е. Стиховедение и математика//Содружество наук и тайны творчества. М., 1968. С. 384.
- Там же. С. 385.
- Федотов О.И. Основы русского стихосложения. Теория и история русского стиха: В 2 кн. Кн. 1. Метрика и ритмика. М., 2002. С. 220.
- Добычин Л.И. Город Эн//Добычин Л.И. Полное собрание сочинений и писем. СПб.,1999.
- Белоусов А.Ф. Озвучение текста в прозе Л. Добычина//Russian Literature. 1 July 1999. T. XLYI (1).
- Гиршман М.М. Художественная проза//Литературный сборник. Вып. 4. Донецк, 2000. С. 196.
- Щерба Л.В. Фонетика французского языка. М., 1948. С. 85.
- Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика. М., 1996.
- Семьян Т.Ф. Визуальный облик прозаического текста. Челябинск, 2006.
- Шубина Н.Л. Паралингвистические средства в письменном тексте и их функции//Художественный текст. Аспекты сверхфразовой организации. СПб., 1997.
- Белоусов А.Ф. Примечания. Комментарии//Леонид Добычин: «Город Эн». Даугавпилс, 2007.
- Ильф И., Петров Е. Золотой теленок; Двенадцать стульев. Рига, 1991. С. 473-474.
- Платонов А.П. Фро//Платонов А. Собр. соч.: В 3 т. Т. 2. М., 1985. С. 131.
- Лотман Ю.М. Проблема художественного пространства в прозе Гоголя//Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 3 т. Т. 1. Таллин, 1992.