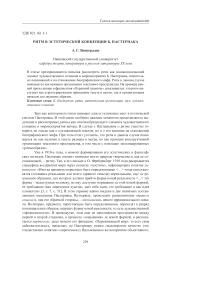Ритм в эстетической концепции Б. Пастернака
Автор: Виноградов Александр Сергеевич
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Голоса молодых исследователей
Статья в выпуске: 1, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринимается попытка рассмотреть ритм как основополагающий элемент художественного сознания и мировосприятия Б. Пастернака, значительно повлиявший и на становление биографического мифа. Ритм в данном случае понимается как принцип организации текстового пространства. На примере ранней прозы автора и фрагментов «Охранной грамоты» доказывается, что ритм выступает как структурирующим принципом текста в целом, так и организующим началом для звуковых образов.
Б. пастернак, ритм, ритмическая организация, звук, художественное сознание
Короткий адрес: https://sciup.org/146121993
IDR: 146121993 | УДК: 821.161.1-1
Текст научной статьи Ритм в эстетической концепции Б. Пастернака
Звук как категория поэтики занимает одно из ключевых мест в поэтической системе Пастернака. В этой связи особенно важным моментом представляется выделение и рассмотрение ритма как основообразующего элемента художественного сознания и мировосприятия автора. В случае с Пастернаком о ритме уместно говорить не только как о составляющей текстов, но и о его влиянии на становление биографического мифа. При этом стоит уточнить, что ритм в данном случае понимается не как наличие в тексте размера и метра, но как принцип конструктивной организации текстового пространства, в том числе с помощью эксплицированных «ритмообразов».
Уже в 1910-е годы, в момент формирования его эстетических и философских взглядов, Пастернак отводит значимое место природе творчества и, как ее составляющей, – ритму. Так, в его письме к О. Фрейденберг 1910 года раскрывается специфика восприятия мира через попытку «постичь», зафиксировать понятие лирическое: «Иногда предметы перестают быть определенными <…> тогда они становятся (оставаясь реальными для моего здравого смысла) нереальными, еще не реальными образами, для которых должна прийти форма новой реальности <…> это форма – недоступная человеку, но ему доступно порывание за этой новой формой, ее требование (как лирическое чувство, дает себя знать это требование и как идея сознается)» [3, т. 7, с. 51]. В этом отрывке важно выделить две значимых составляющих мышления Пастернака. Во-первых, происходит разграничение здравого смысла и, как его обратной стороны, – вдохновения, некого иррационального начала. Во-вторых, предметы, перестающие быть определенными, переходят в разряд потенциальных образов, ищущих форму новой реальности, то есть художественной «оформленности». В промежутке, этом еще не заполненном пространстве между первой и второй стадиями, в процессе «порывания» за новой формой, и располагается лирическое, здесь момент его фиксации. «Переживаемый мир», то есть сама действительность, предстает, по Пастернаку, неким «водоворотом качеств» (что тождественно понятию «лирическое»). Вдохновенное же восприятие объективного, по Пастернаку, переводит действительность в «легендарные качества без предметов», «беспредметную фантастику», причинность которой – ритм [Там же, с. 53]. Впоследствии Пастернак (в 1926 году, в письме М. Цветаевой), анализируя ритмическую составляющую своих поэм, выведет формулу «ритм, который девять месяцев носит слово». В том случае данное им определение относилось к метрической характеристике стиха, однако, как представляется, это образное выражение свидетельствует и о первичности ритма в его «словопорождающей» функции.
Ритм ощущается как отправная точка (как категория, находящаяся еще в пред -творческой стадии, но потенциально креативная), становящаяся исходным этапом в художественном осмыслении действительности. Подобное мироощущение Пастернака Б. Гаспаров связывает с катастрофой падения 1903 года и конкретно со следующим автобиографическим пассажем Пастернака: «Отныне ритм будет событием для него, и, обратно, события станут ритмами; мелодия же, тональность и гармония – обстановкой и веществом бытия» [Там же, с. 319]. Л. Флейшман видит в этом пассаже связь «галопа и падения» с началом музыкального творчества [4, с. 345]; более того, исследователем отмечается тема «преображения», нашедшая свое отражение в стихотворении «Август». Шестое августа, таким образом, становится для Пастернака еще одной датой «рождения», отправной точкой перехода во взрослую жизнь.
В этом же письме к Фрейденберг встречаем фрагмент, указывающий на тесное соседство для Пастернака музыки, ритма и поэзии: «…знакомый запах накатывает прошлое, как валики по твоему “сейчас”, и вот хочется прильнуть к музыке и отпечататься лирическим шифром. <…> …я прямо поражался тому, сколько небывалых перекрестков и закоулков в этой музыке импровизаций, – вечернем городе, такими незнакомыми фигурами спотыкающемся над твоим извозчиком» [3, т. 7, с. 51] (здесь и далее в цитатах выделено мною. – А. В.). Во-первых, здесь наблюдаем пока еще со-существование музыки и поэзии, они составляют некий синтез; поэзия находится в своеобразном синкретическом состоянии. Однако она уже постепенно перенимает такое качество музыки, как ритм и свойственную поэтике Пастернака импровизацию. Второй важный момент – образ вечернего города, спотыкающегося над извозчиком, воплощенного в музыке импровизаций. Скорее всего, перед нами вновь отголосок падения 1903 года, его художественное переживание, на что указывает причастие, соотносящееся с памятными для Пастернака «трехдольными синкопированными ритмами галопа». Более того, восприятие города и попытка словесно выразить «лирическую тему» настигают Пастернака как раз на извозчике, что, вероятно, и обусловило проявление особого взгляда на действительность, – взгляда сквозь призму ритма: «Тогда, на извозчике, этот город казался бесконечным содержанием без фабулы, материей, переполнением самого фантастического содержания, темного, прерывающегося, лихорадочного которое бросалось за сюжетом, за лирическим предметом, лирической темой для себя к нам» [Там же, с. 53]. Прерывающееся, лихорадочное содержание в этом случае, вероятно, является метонимическим переносом ощущений, свойственных поездке на извозчике, на окружающую действительность. И именно эта акцентированная прерывистость создает ритм самого текста с помощью лексического и синтаксического повтора и ритм как переживание-воспоминание – с помощью мотивно-образного повтора. Подобный интерес к ритмическим экспериментам и последующее вплетение в текст эффекта ритмического перебоя вовсе не случайно. В 1909 году Пастернак-композитор создает Прелюдию gis-mol, которая, по наблюдениям Б. Гаспарова, букваль- но изобилует наложениями двухдольных и трехдольных ритмических фигур (что создает эффект ритмического перебоя). Характеризуя фортепианные сочинения Пастернака в целом, исследователь отмечает их построения на синкопированных триолях [1, с. 134–135]. В указанной монографии Б. Гаспарова триоль определяется автором так: «Триолью называют особого рода ритмическую фигуру, своего рода музыкальный аналог логаэда, состоящий в перебиве двоичного и троичного ритма. Эффект триоли возникает, когда четное (двоичное) чередование ударной и неударной доли перебивается трехдольной фигурой, временная протяженность которой тождественна по времени двухдольной» [Там же].
В 1913 году Пастернак в тезисной форме постулирует свои эстетико-философские взгляды в докладе «Символизм и бессмертие». Ключевым фрагментом тезисов нам видится следующий: «Значение единственного символа музыки – ритма находится в поэзии. Содержание поэзии – есть поэт как бессмертие. Ритм символизирует собою поэта» [3, т. 5, с. 318]. Как видим, поэзия для Пастернака изначально организуется по законам музыки; кроме того, устанавливается неразрывная связь между музыкой и поэзией (через ритм). Отчасти с этой мыслью перекликается фрагмент из «Охранной грамоты», где Пастернак определяет искусство через схожие категории: «Мы втаскиваем вседневность в прозу ради поэзии. Мы вовлекаем прозу в поэзию ради музыки» [Там же, т. 3, с. 160]. Визуально эту триаду (поэт – ритм – музыка) можно представить как равносторонний треугольник с соответствующим образом расположенными вершинами.
Неразрывная связка Пастернака поэзия-музыка-ритм во многом сходна с теоретическими разысканиями символистов, в частности, А. Белого. В статье 1909 года «Магия слов» Белый выстраивает собственную концепцию, основываясь на соотношении звука и слова. Слово в понимании Белого носит характер заклинания ; песня же, определенным образом комбинируя и сочетая слова, обретает магическую природу. Песня в понимании Белого – первый день творчества, первый день мира искусств; из нее развилась и поэзия, и музыка. Более того, песня для Белого наделена символическим значением, поскольку символ всегда музыкален. Первым – и в то же время её порождающим – признаком музыки, в свою очередь, является ритм .
Однако слово в понимании Белого наделяется особым смыслом (что свойственно символистскому мироощущению в целом), через создание мира звуковых символов становясь способом постижения мира. Заклинательное начало слова (вспомним формулу Вяч. Иванова: первоначальный стих – заклинание) выявляется, вероятно, именно в силу присутствия ритма как организационного принципа заговорных конструкций, по-особому воздействующих на сознание реципиента. Для Пастернака ритм выступает более как способ создания и упорядочивания образной системы текста.
В 1911 году Пастернак создает два наброска (которые вместе с другими прозаическими текстами и стихами 1910-х годов О. Клинг склонен определять как «единый творческий надтекст», в то же время отмечая ориентированность автора на символизм [2, с. 134]), выстраивая их – главным образом первый – вокруг ритма как организационного принципа. Зарисовки сделаны в то же время, когда Л.О. Пастернак писал картину «Разгрузка вагонов в Одесском порту». Становясь опорной точкой, ритм определяет и структурирует все звучание текста, при этом задавая вначале особую «тональность»: «Вдруг хочется поглядеть, откуда все это. Тогда покидаешь свежее веяние морского лязга: одиноких ударов, случайных падений прорывающихся сигналов – с крепкой синевой величавых пауз среди них, беспричин- ных, бродяжничающих вскриков» [3, т. 3, с. 478]. Удары, сигналы падений, вскрики разделены «величавыми паузами», тем самым обособляясь друг от друга, но имея схожий мерный и постоянный характер. Стоит отметить, что здесь все описываемое происходит поздним вечером (ночью); и ночь, как правило, является у Пастернака тем временным отрезком, когда звучание проявляется чаще всего (ср., например, ночные пейзажи в «Охранной грамоте») и достигает своего предела.
Смысловую связку с этим текстом составляет другой набросок, дополняющий и развивающий первый в звуковом отношении. Второй этюд буквально «испещрен» разного рода звуками, которые так или иначе объединяются в единый семантический комплекс, имплицитно содержащий то, что связано с темой извозчиков и, главное, ритмом: «Это – звуки стучащих ящиков и бочек, понукания и поступь – все это увозят вниз. По пути эти стучащие клади или шагающие рядом люди с солнцем, как ранцем, за плечами, сносятся с жизнью, мимо которой они проходят. Тогда им отвечают или окликают их из окон, подворотен или просто шумят без связи с ними, но весь уличный шум пристает к обозу » [Там же, с. 479]. Именно образ обоза с ритмичным движением «стягивает» на себя и организует все источники звуков.
Теперь обратимся к тем примерам звуковых пейзажей, которые представлены в «Охранной грамоте», «оркестрованы» разного рода звуками и выстроены вокруг ритма: «С нее <низины> тянуло ночной сыростью. На ней бессонно громыхало железо, и, стекаясь и растекаясь , мызгали взад и вперед запасные пути. Что-то шумное поминутно падало и подымалось. Водяной грохот плотины до утра додерживал ровную ноту, оглушительно взятую с вечера. Режущий визг лесопильни в терцию подтягивал быкам на бойне. Что-то поминутно лопалось и озарялось, пускало пары и опрокидывалось. Что-то ерзало и заволакивалось крашеным дымом» [Там же, с. 174]. Заметно, как в приведенном отрывке фиксируются однообразные и монотонные «действия»: поминутно – обозначен временной интервал, определенная последовательность движений; что-то шумное падало и подымалось – предмет не называется, а лишь угадывается как нечто малоопределенное, исходя из особенностей звучания и звуковых эффектов. К тому же антонимическая пара падать / подыматься словно иллюстрируют и высоту звука в течение процесса. Более того, указанный промежуток времени ( поминутно ) свойствен всем источникам звучания и через эту своеобразную «метрономную» характеристику указывает на ритмическое начало происходящего в низине. Все следующие синтаксические конструкции построены на этой бинарной ритмической фигуре ( лопалось и озарялось ), именно их умножение и работает на поддержание заданного ритма.
Отметим, что в рассматриваемом ночном пейзаже, который наделен звучанием разного происхождения, присутствует движущийся поезд с его неизменным шумом и ритмичными перебивами. Появление здесь образа поезда отнюдь не случайно, поскольку он устойчиво ассоциируется для Пастернака, подобно конскому галопу, с мерным ритмом (стуком) колес. Например, в письме к А. Штиху от 12/25.07.1912 г.: «Идут, похаживают, стучат, постукивают поезда, поля, поля, поля – и горы, горы – и вдруг они разрешаются Марбургом» [Там же, с. 131]. Мотив стука в творчестве Пастернака выделяется рядом исследователей (в частности, П.-А. Будни), что позволяет говорить об этом феномене как неком инварианте пастернаковской поэтики.
Как видим, ритм становится для Пастернака своеобразной «меркой» действительности в силу известного биографического переживания-момента. Но определенное «ритмическое» восприятие во многом обусловило и формирование художественного сознания Пастернака, что проявилось не только в выстраивании ранних прозаических текстов вокруг ритма как структурирующего принципа, но и в определенном подчинении ему образов. Более того, ритмическое начало в творчестве Пастернака является неотъемлемой частью звуковых образов.
Список литературы Ритм в эстетической концепции Б. Пастернака
- Гаспаров Б. М. Борис Пастернак: по ту сторону поэтики (Философия. Музыка. Быт). М.: Новое лит. обозрение, 2013. 272 с.
- Клинг О. А. Пастернак и символизм//Вопросы литературы. 2002. № 2. С. 25-59.
- Пастернак Б. Л. Полное собрание сочинений: в 11 т. М.: Слово/Slovo, 2003-2005.
- Флейшман Л. С. От Пушкина к Пастернаку. Избранные работы по поэтике и истории русской литературы. М.: Новое лит. обозрение, 2006. 784 с.