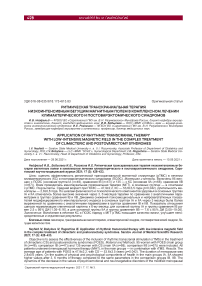Ритмическая транскраниальная терапия низкоинтенсивным бегущим магнитным полем в комплексном лечении климактерического и постоварэктомического синдромов
Автор: Нейфельд И. В., Бобылева И. В., Рогожина И. Е.
Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj
Рубрика: Акушерство и гинекология
Статья в выпуске: 3 т.17, 2021 года.
Бесплатный доступ
Цель: оценить эффективность ритмической транскраниальной магнитной стимуляции (рТМС) в лечении климактерического (КС) и постоварэктомического синдромов (ПОЭС). Материал и методы. Включены 95 женщин с ПОЭС (основная группа IА (n=48), сравнения IB (n=47)) и 135 — с КС (основная IIА (n=68), сравнения IIB (n=67)). Всем проводилась менопаузальная гормональная терапия (МГТ), в основных группах — в сочетании с рТМС. Результаты. Средний возраст при ПОЭС — 47,9±2,2, КС — 53,6±3,5 года (р=0,042). Длительность менопаузы — 2,8±0,6 года. По шкалам физического и психологического компонентов здоровья в основных группах IА и IIА отмечались более высокие значения через 3, 6 месяцев терапии по сравнению с аналогичными параметрами в группах сравнения IB и IIB. Динамика снижения психоэмоциональных и нейровегетативных показателей модифицированного менопаузального индекса в основных группах IА и IIА через 3 месяца была более выраженной по сравнению с аналогичными параметрами в группах сравнения IB и IIB. Показатель отношения шансов нормализации клинической картины к 6‑му месяцу для основной группы IА и группы сравнения IB равен 2,5 с 95 % ДИ [1,05–6,16], а для основной группы IIА и группы сравнения IIB — 7,6 с 95 % ДИ [3,05–19,05]. Заключение. Включение в лечение КС и ПОЭС наряду с МГТ рТМС повышает качество жизни, улучшает непосредственные и отдаленные результаты.
Менопауза, транскраниальная магнитотерапия, климактерический синдром, постоварэктомический синдром, бегущее магнитное поле.
Короткий адрес: https://sciup.org/149138130
IDR: 149138130 | УДК: 616‑08‑035 / 618.173+615.83
Текст научной статьи Ритмическая транскраниальная терапия низкоинтенсивным бегущим магнитным полем в комплексном лечении климактерического и постоварэктомического синдромов
-
1Введение. В связи с общим повышением продолжительности жизни отмечается рост популяции людей старшего возраста, следовательно, закономерно увеличивается длительность пребывания женщины в периоде климактерия. Во время этого периода на фоне возрастной и гормональной перестройки организма возникают и доминируют симптомы, свидетельствующие о дефиците половых стероидов.
Традиционно при классической оценке тяжести климактерических расстройств анализируют три группы симптомов: нейровегетативные (вазомоторные), психоэмоциональные, обменные (метаболические), объединяемые в общий симптомокомплекс КС [1, 2].
При хирургической менопаузе, в частности вследствие тотальной оварэктомии, на фоне остро возникшего эстрогенодефицита, как правило, возникает так называемый ПОЭС, клинически схожий с КС [1, 2].
В рекомендациях российских и различных международных организаций по коррекции менопаузальных расстройств в числе главных принципов значится оптимизация качества жизни и обеспечение мероприятий, направленных на долгосрочное благополучие женщин [2, 3]. К сожалению, нередко акушеры-гинекологи к числу «общих» относят вопросы, касающиеся снижения качества жизни. Вопросам снижения качества жизни женщин уделяется недостаточно внимания [2, 3], несмотря на то, что часто именно эта жалоба является главной причиной обращения женщин за медицинской помощью.
В вопросах этиопатогенеза КС до настоящего времени остаются нераскрытыми и не до конца изученными многие аспекты.
Так, не всесторонне рассмотрен такой этиологический фактор, как психоэмоциональный фон, включающий, в том числе, и аспекты астении, настроения, эмоции, тревожности, фобии, когнитивного функционирования; отмечаются «пробелы» в понимании функционального состояния отделов нервной системы при прогрессировании эстрогенодефицита; противоречивы сведения о роли опиоидных систем, дефицита эндорфинов в развитии тревожности и депрессивного синдрома при КС и ПОЭС [4]; малочисленны сведения и неоднозначны представления о функционировании систем адаптации женского организма в условиях нарастающего эстрогенодефи-цита.
В целом, трактуя современную концепцию патогенеза КС, необходимо обратить внимание на превалирующее значение дисфункции гипоталамических структур, координирующих вегетососудистые и психоэмоциональные реакции [2].
Общепринятым и закрепленным в нормативной базе российских и различных международных организаций является назначение пациенткам с ПОЭС и КС препаратов менопаузальной гормональной терапии.
Наряду с этим известно, что приблизительно 75% женщин отмечают положительное влияние менопаузальной гормональной терапии на имеющиеся у них симптомы [4–6].
Безусловно с учетом патогенеза заболевания и недостатков лекарственной терапии актуальным является поиск методов лечения, которые действовали бы на несколько звеньев патогенеза заболевания и обеспечивали как лечебный эффект, так и положительный эффект последействия.
В гинекологической практике имеется опыт применения методик немедикаментозной коррекции климактерических расстройств, зарекомендовавших себя эффективными в коррекции нарушений оси «ги-потоламус — гипофиз — яичники» и способных оказывать модулирующее воздействие на вегетативную нервную систему и на психоэмоциональный статус [1, 2, 7–9].
Несмотря на имеющиеся теоретические предпосылки, транскраниальная стимуляция низкоинтенсивным бегущим магнитным полем до настоящего времени не нашла должного применения в лечении пациенток с КС. Более того, в доступных нам источниках мы не нашли указания на применение ее в лечебных схемах у пациенток с ПОЭС.
Цель — оценить эффективность включения ритмической транскраниальной стимуляции низкоинтенсивным бегущим магнитным полем в комплексную терапию пациенток с КС и ПОЭС.
Материал и методы. Для решения поставленной в работе цели нами были обследованы и пролечены 230 пациенток с климактерическими расстройствами, из которых у 95 больных они отмечались при хирургической постменопаузе, у 135 человек — при естественной постменопаузе.
Формирование анализируемой выборки осуществлялось в режиме стратифицированной рандомизации. Стратификация проводилась по степени тяжести климактерических расстройств. Затем пациентки были разделены с использованием таблицы случайных чисел в группы — основную и сравнения. Таким образом нами были сформированы в случаях хирургической менопаузы — основная группа IА ( n =48) и группа сравнения IB ( n =47), в случаях естественной менопаузы — основная группа IIА ( n =68) и группа сравнения IIB ( n =67).
Пациентки обеих групп в целях коррекции климактерических расстройств получали менопаузальную гормональную терапию: при хирургической постменопаузе — эстрадиол гемигидрат ежедневно в лекарственной форме трансдермального геля; при естественной — эстрадиол гемигидрат трансдермально и микронизированный прогестерон 100 мг внутрь в непрерывном режиме.
Пациенткам основной группы добавлялся курс ритмической транскраниальной магнитной стимуляции низкоинтенсивным бегущим импульсным магнитным полем, состоящим из 10 процедур, проводимых через день.
Транскраниальная магнитотерапия бегущим импульсным магнитным полем проводилась с помощью физиотерапевтического аппарата «АМО-АТОС-Э» с применением приставки «Оголовье» (рег. удостоверение Минздрава Рф № ФСР 2009/04781 от 06.05.2009, производство ООО «ТРИМА», г. Саратов). Частота модуляции для первых двух процедур устанавливает- ся 1 Гц в течение 5 мин, с последующим постепенным увеличением экспозиции на 1 мин, до 10 мин и частоты модуляции до 10 Гц, курсом 10 дней.
Оценка тяжести климактерических расстройств проводилась по индексу Купермана (1959) в модификации Е. В. Уваровой [1], рассчитывался модифицированный менопаузальный индекс (ММИ).
Оценка качества жизни больных проводилась при помощи опросника «SF-36 Health Status Survey» (SF-36). Показатели каждой шкалы варьируют между 0 и 100, где последний соответствует полному здоровью.
Статистический анализ проводился с использованием программного пакета для статистического анализа Statistica (версия 7.0). Проверка гипотезы на нормальность исходных данных выполнена с помощью критерия Колмогорова — Смирнова, при этом распределение признаков было нормальным. Результаты представляли в виде средних значений ( М ) и стандартного отклонения ( SD ). При оценке качественных показателей вычисляли абсолютные и относительные частоты наблюдений (абс., %). Для сравнительной оценки в исследуемых группах частоты выявления конкретного исхода рассчитывался статический параметр — отношение шансов. Различия между двумя средними значениями параметров оценивали по t -критерию Стьюдента, качественными — по критерию χ2 Фишера (статистически значимыми считали различия при p <0,05).
Результаты. На момент проводимого обследования средний возраст пациенток с хирургической менопаузой составил 47,9±2,2 года, с естественной — 53,6±1,7 года (р=0,042); в среднем хирургическая менопауза наступила в 47,1±1,1 года, естественная — в 51,8±1,5 года (р=0,012). Несмотря на указанные различия, женщины, включенные с менопаузальными расстройствами в исследование, были сравнимы по длительности эстрогенодефицитного состояния, которое составило 2,8±0,6 года.
Все пациентки на момент обследования предъявляли жалобы на нейровегетативные, психоэмоциональные, обменно-эндокринные нарушения, которые сочетались в многообразных комбинациях. Стоит обратить внимание на то, что в нашем исследовании у пациенток и в случаях естественной, и в случаях хирургической менопаузы не отмечено выраженных обменно-эндокринных нарушений в структуре ММИ. Данный факт не противоречит имеющимся научным сведениям и находит вполне логичное объяснение: все пациентки, включенные в исследование, были с длительностью эстрогенодефицита менее трех лет, за данный период, очевидно, не успели сформироваться выраженные метаболические изменения в организме женщины.
Суммарное значение ММИ (ММИ сумм.) у пациенток рассматриваемых групп значимо различалось между собой: при постоварэктомическом синдроме (ПОЭС) — 57,8±1,1 балла, при КС — 49,7±0,9 балла ( р <0,001).
Представленные в табл. 1 и 2 изменения значений модифицированного менопаузального индекса в динамике позволяют установить, что у пациенток основной группы и группы сравнения как при естественной, так и при хирургической менопаузе проводимое лечение оказывало положительное воздействие; однако отмечались заслуживающие внимания различия в показателях.
Среди пациенток с исходно легкой степенью ней-ровегетативных нарушений ММИ спустя три месяца лечения только в основной группе IIА достигнуто значимое снижение ММИ до уровня показателя женщин с нормальным течением постменопаузы (табл. 1).
-
У пациенток с исходно средней степенью нейро-вегетативных нарушений ММИ на фоне проводимой
Таблица 1
Динамика модифицированного менопаузального индекса нейровегетативных нарушений у пациенток с климактерическим и постоварэктомическим синдромами
|
Изучаемые параметры |
Группа |
p 1-2 |
p 3-4 |
|||
|
основная IА ( n =48) |
сравнения IB ( n =47) |
основная IIА ( n =68) |
сравнения IIB ( n =67) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
M ( SD ) |
||||||
|
Подгруппа пациенток исходно с легкой степенью: |
||||||
|
n =7 |
n =6 |
n =9 |
n =8 |
|||
|
Исходно |
18,34 (0,32) |
18,46 (0,29) |
16,02 (0,28) |
15,58 (0,31) |
0,79 |
0,31 |
|
Через 3 месяца |
13,06 (0,64) *, р <0,01 |
16,09 (1,03), р =0,054 |
7,92 (0,22) *, р <0,01 |
12,54 (1,31) *, р =0,042 |
0,03 |
<0,01 |
|
подгруппа пациенток исходно со средней степенью: |
||||||
|
n =20 |
n =20 |
n =46 |
n =46 |
|||
|
Исходно |
27,48 (0,41) |
27,49 (0,38) |
25,66 (0,51) |
25,58 (0,43) |
0,98 |
0,91 |
|
Через 3 месяца |
23,21 (0,51) *, р <0,01 |
26,18 (0,63), р =0,083 |
21,34 (0,29) *, р <0,01 |
23,62 (0,91), р =0,055 |
<0,01 |
0,02 |
|
Подгруппа пациенток исходно с тяжелой степенью: |
||||||
|
n =21 |
n =21 |
n =13 |
n =13 |
|||
|
Исходно |
35,32 (1,26) |
35,29 (1,56) |
33,19 (1,29) |
33,17 (1,06) |
0,98 |
0,99 |
|
Через 3 месяца |
26,88 (1,19) *, р <0,01 |
31,44 (1,81), р =0,115 |
25,37 (1,01) *, р <0,01 |
29,36 (1,59), р =0,058 |
0,04 |
|
|
Примечание: |
* — статистически значимые различия по отношению к исходным данным до лечения. |
|||||
3-месячной терапии достигнуто снижение показателей, причем в основной группе IА и основной группе IIА оно было значимым (табл. 1). Сходная динамика изменений на фоне терапии нейровегетативных нарушений ММИ была зафиксирована и у пациенток с исходно тяжелой степенью (табл. 1).
Заслуживает внимания динамика показателей ММИ, относящихся к психоэмоциональному симпто-мокомплексу, у пациенток рассматриваемых нами групп (табл. 2).
Так, спустя три месяца лечения показатели у пациенток с исходно легкой степенью психоэмоциональных нарушений ММИ, несмотря на снижение, оставались на уровне параметров легкой степени и при КС, и при ПОЭС; однотипная закономерность была отмечена и у пациенток с исходно средней и тяжелой степенями психоэмоциональных нарушений ММИ (табл. 2).
При этом обращает на себя внимание то, что в случаях проведения пациентке лечения препаратами менопаузальной гормональной терапии с включением курсов ритмической транскраниальной стимуляции стволовых структур низкоинтенсивным бегущим магнитным полем было отмечено значимое снижение анализируемых показателей (во всех случаях зарегистрированная статистическая значимость различий составила p <0,05) в отличие от случаев изолированного использования МГТ.
На фоне имеющихся клинических проявлений эстрогенодефицита у рассматриваемого нами контингента женщин исходно отмечалось снижение показателей качества жизни по всем шкалам опросника SF-36.
Нейровегетативные и психоэмоциональные расстройства у пациенток обусловливали снижение и общих показателей качества жизни: суммарного физического компонента здоровья и суммарного психологического компонента здоровья (табл. 3).
Таблица 2
|
Изучаемые параметры |
Группа |
p 1-2 |
p 3-4 |
|||
|
основная IА ( n =48) |
сравнения IB ( n =47) |
основная IIА ( n =68) |
сравнения IIB ( n =67) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
M ( SD ) |
||||||
|
Подгруппа пациенток исходно с легкой степенью: |
||||||
|
n =5 |
n =5 |
n =6 |
n =5 |
|||
|
Исходно |
6,66 (0,16) |
6,65 (0,11) |
5,34 (0,21) |
5,32 (0,16) |
0,96 |
0,94 |
|
Через 3 месяца |
4,51 (0,07) *, р <0,01 |
5,84 (0,41), р =0,098 |
3,99 (0,16) *, р <0,01 |
4,87 (0,12), р =0,059 |
0,02 |
<0,01 |
|
Подгруппа пациенток исходно со средней степенью: |
||||||
|
n =12 |
n =11 |
n =46 |
n =46 |
|||
|
Исходно |
13,81 (0,26) |
13,77 (0,28) |
12,11 (0,19) |
12,41 (0,21) |
0,92 |
0,97 |
|
Через 3 месяца |
11,28 (0,22) *, р <0,01 |
12,64 (0,57), р =0,091 |
9,18 (0,21) *, р <0,01 |
11,11 (0,66), р =0,063 |
0,03 |
<0,01 |
|
Подгруппа пациенток исходно с тяжелой степенью: |
||||||
|
n =31 |
n =31 |
n =16 |
n =16 |
|||
|
Исходно |
21,11 (0,89) |
21,12 (0,87) |
20,06 (0,87) |
20,12 (0,64) |
0,99 |
0,95 |
|
Через 3 месяца |
17,3 (0,38) *, р <0,01 |
19,12 (0,77), р =0,089 |
16,15 (0,61) *, р <0,01 |
18,35 (0,66), р =0,064 |
0,04 |
0,02 |
П р и м еч а н и е : * — статистически значимые различия по отношению к исходным данным до лечения.
Динамика модифицированного менопаузального индекса психоэмоциональных нарушений у пациенток с климактерическим и постоварэктомическим синдромами
Таблица 3
Динамика общих параметров качества жизни по опроснику SF-36 у пациенток с климактерическим и постоварэктомическим синдромами
p 3-4
|
Общий физический компонент здоровья: |
||||||
|
Исходно |
57,2 (2,08) |
57,2 (3,28) |
68,4 (2,52) |
68,3 (3,44) |
0,99 |
0,98 |
|
Через 3 месяца |
63,1 (1,99) * р=0,043 |
58,9 (0,11) р=0,605 |
75,6 (1,32) * р=0,012 |
70,8 (1,33) р=0,499 |
0,03 |
0,01 |
Окончание табл. 3
|
Изучаемые параметры |
Группа |
p 1-2 |
p 3-4 |
|||
|
основная IА ( n =48) |
сравнения IB ( n =47) |
основная IIА ( n =68) |
группа IIB ( n =67) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
M (SD) |
M (SD) |
M (SD) |
M (SD) |
|||
|
Через 6 месяцев |
67,9 (1,15) * р <0,01 |
64,5 (1,13) * р =0,038 |
80,5 (1,15) * р <0,01 |
76,5 (1,16) * р =0,026 |
0,03 |
0,01 |
|
Общий психологический компонент здоровья: |
||||||
|
Исходно |
53,9 (3,66) |
53,9 (3,86) |
64,1 (4,62) |
64,1 (4,12) |
0,99 |
0,99 |
|
Через 3 месяца |
62,8 (1,32) * р =0,024 |
57,9 (1,62) р =0,342 |
76,4 (2,12) * р =0,017 |
67,6 (2,55) р =0,471 |
0,02 |
<0,01 |
|
Через 6 месяцев |
74,2 (3,43) * |
63,9 (3,11) * |
86,7 (2,44) * |
75,3 (2,07) * |
0,03 |
|
|
р <0,01 |
р =0,047 |
р <0,01 |
р =0,017 |
|||
|
Примечание: |
* — статистически значимые различия по отношению к исходным данным до лечения. |
|||||
В динамике лечения пациенток рассматриваемых нами групп изменения по интегративным шкалам опросника физический и психологический компоненты здоровья несколько различались (табл. 3).
По шкалам физического и психологического компонентов здоровья общая динамика изменения показателей была положительной у пациенток с ПОЭС и КС (табл. 3), однако у пациенток основной группы IА и основной группы IIА отмечались более высокие значения как через три месяца, так и через шесть месяцев терапии по сравнению с аналогичными параметрами у пациенток группы сравнения IB и группы сравнения IIB.
Таким образом, как видно из табл. 3, у пациенток в случаях проведения лечения препаратами менопаузальной гормональной терапии с включением курсов ритмической транскраниальной стимуляции стволовых структур низкоинтенсивным бегущим магнитным полем в динамике лечения улучшились параметры качества жизни, но более значимые изменения были по шкалам, составляющим психологический компонент здоровья.
Спустя шесть месяцев терапии постоварэктоми-ческого синдрома в основной группе IА ( n =48) нормализация клинической картины по суммарному ММИ (7,2±1,1 балла) достигнута у 21 (43,8%) пациентки, климактерические расстройства легкой степени тяжести (ММИ сумм. — 25,6±3,1 балла) отмечены у 15 (31,2%), средней (ММИ сумм. — 40,4±2,9 балла) — у 12 (25%) женщин. В то время как в группе сравнения IB ( n =47) проведенное лечение ПОЭС привело к отсутствию климактерических расстройств у 11 (23,4%) женщин, суммарное значение ММИ в среднем у которых составило 9,3±1,6 балла; сохранение ПОЭС легкой степени тяжести (ММИ сумм. — 31,5±2,2 балла) отмечено у 17 (36,2%), средней (ММИ сумм. — 47,2±2,7 балла) — у 19 (40,4%) пациенток.
Терапия КС у пациенток основной группы IIА ( n =68) к 6-му месяцу терапии способствовала в 47% ( n =32) случаев нормализации клинической картины (значение суммарного ММИ в среднем 4,6±2,2 балла), в 42,6% ( n =29) случаев отмечалась легкая степень тяжести КС (ММИ сумм. — 16,3±2,9 балла), в 10,3% ( n =7) — средняя (ММИ сумм. — 37,6±1,9 балла). В группе сравнения IIB ( n =67) отсутствие климактерических расстройств спустя шесть месяцев терапии достигнуто в 10,4% ( n =7) случаев (ММИ сумм. — 6,8±2,4 балла), легкая степень КС (ММИ сумм. — 24,4±3,2 балла) зарегистрирована в 62,7%
(n=42), средняя (ММИ сумм. — 42,6±2,7 балла) — в 26,9% ( n =18) случаев.
Для расчета вероятности становления исхода, а именно нормализации клинической картины до полного улучшения самочувствия у пациенток в группах, был рассчитан показатель отношения шансов.
Для основной группы IА ( n =48) и группы сравнения IB ( n =47) при терапии ПОЭС спустя шесть месяцев он был равен 2,5 с 95% ДИ [1,05-6,16]. Из этого следует вывод, что вероятность полного улучшения самочувствия у пациенток на фоне проведения лечения препаратами менопаузальной гормональной терапии с включением курсов ритмической транскраниальной стимуляции стволовых структур низкоинтенсивным бегущим магнитным полем в 2,5 раза выше, чем у пациенток на фоне изолированного использования МГТ.
При лечении КС нормализация клинической картины у пациенток основной группы IIА ( n =68) к 6-му месяцу терапии наблюдалась, соответственно, в 7,6 раз чаще, чем в группе сравнения IIB ( n =67). Показатель отношения шансов равен 7,6 с 95% ДИ [3,05–19,05].
Обсуждение. Известно, что лечение является эффективным тогда, когда оно этиопатогенетически обосновано.
Однако сложность изучения этиопатогенеза как климактерического, так и постоварэктомиче-ского синдромов заключается в том, что причины и механизмы их возникновения являются мульти-факторными, поддерживаются генетически детерминированными и приобретенными дефектами имму-норегуляторных механизмов; более того, состояния КС и ПОЭС являются динамически развивающимися процессами, которые происходят на фоне прогрессирующего нарастания эстрогенодефицита и закономерных этапов физиологического старения, а также неоднозначных представлений о функционировании систем адаптации женского организма.
Клинические проявления КС и ПОЭС нередко являются «завуалированными», поддерживая формирование психосоматических заболеваний, проявляющихся психическими нарушениями (нарушениями адаптации) и соматическими сдвигами (полиморфизмом симптомов).
К сожалению, в современной тактике лечения КС и ПОЭС не учитывается психосоматическая составляющая заболевания, хотя ранее сказанное свидетельствует о необходимости лечебного воздействия и в этом направлении, причем физиотерапевтические методы позволяют проводить такую терапию [2].
Патогенетической основой эффективности транскраниальной магнитотерапии при КС и ПОЭС является влияние низкоинтенсивного бегущего магнитного поля на гипоталамо-гипофизарно-яичниковую систему, центральную и периферическую гемодинамику, нервные и гуморальные механизмы регуляции сердечно-сосудистой системы [7–9].
В нашем исследовании показано, что схема лечения климактерических расстройств с включением наряду с менопаузальными гормональными препаратами ритмической транскраниальной стимуляции стволовых структур мозга низкоинтенсивным бегущим магнитным полем позволяет значительно уменьшить нейровегетативные и психоэмоциональные проявления климактерического и постоварэкто-мического синдромов независимо от степени их тяжести, повысить качество жизни пациенток, привести к уменьшению основных клинических проявлений КС и ПОЭС у женщин в катамнезе за шесть месяцев.
Заключение. Таким образом, полученные в настоящем исследовании данные расширяют возможности немедикаментозной коррекции нейровегетативных, психоэмоциональных симптомов климактерического и постоварэктомического синдромов у женщин вне зависимости от их степени тяжести.
Включение ритмической транскраниальной стимуляции стволовых структур низкоинтенсивным бегущим магнитным полем в практические алгоритмы комплексной терапии менопаузальных расстройств дает возможность повысить эффективность лечения как климактерического, так и постоварэктомического синдромов.
Более того, комплексное лечение с применением ритмической транскраниальной стимуляции низкоинтенсивным бегущим магнитным полем наряду с менопаузальной гормональной терапией улучша- ет не только непосредственные, но и отдаленные результаты лечения климактерических расстройств у женщин, находящихся как в естественной, так и в хирургической менопаузе.
Список литературы Ритмическая транскраниальная терапия низкоинтенсивным бегущим магнитным полем в комплексном лечении климактерического и постоварэктомического синдромов
- Smetnik VP. Medicine menopause. Мoscow: Litera, 2009; 848 p. Russian (Сметник В. П. Медицина климактерия. М.: Литтера, 2009; 848 с.).
- Yureneva SV. Modern approaches to the correction of menopausal disorders. Moscow: GEOTAR-Media, 2017; 80 p. Russian (Юренева С. В. Современные подходы к коррекции менопаузальных расстройств. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017; 80 с.).
- Manukhin IB. Quality of life and menopause. Moscow: Litterra, 2015; 320 p. Russian (Манухин И. Б. Качество жизни и климактерий. М.: Литтерра, 2015; 320 с.).
- Sarrel P, Portman D, Lefebvre P, et al. Incremental direct and indirect costs of untreated vasomotor symptoms. Menopause 2014; 22 (3): 260–6.
- Gartoulla P, Islam M, Bell R, et al. Prevalence of menopausal symptoms in Australian women at midlife: a systematic review. Climacteric 2014; (17): 529–39.
- Gartoulla P, Bell R, Worsley R, Davis S. Menopausal vasomotor symptoms are associated with poor self-assessed work ability. Maturitas 2016; (87): 33–9.
- Alisultanova LS, Bobkova AS, Kochetkov AV, Orekhova EM. Neurotropic magnetotherapy in the treatment of patients with climacteric syndrome. AG-Info 2008; (4): 34–7. Russian (Алисултанова Л. С., Бобкова А. С., Кочетков А. В., Орехова Э. М. Нейротропная магнитотерапия в лечении больных с климактерическим синдромом. АГ-Инфо 2008; (4): 34–7).
- Aleksandrov VV. Fundamentals of rehabilitation medicine and physiotherapy. Moscow: GEOTAR-Media, 2018; 208 p. Russian (Александров В. В. Основы восстановительной медицины и физиотерапии. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018; 208 с.).
- Burke M, Fried P, Pascual-Leone A. Transcranial magnetic stimulation: Neurophysiological and clinical applications. In: MD’Esposito, JH Grafman (Eds). The frontal lobes. Handbook of clinical neurology. Amsterdam: Elsevier, 2019; Vol. 163: p. 73– 92. DOI: https://doi.org / 10.1016 / b978‑0‑12‑804281‑6.00005–7.