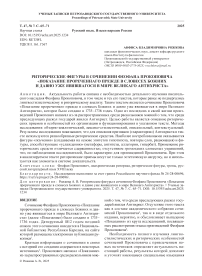Риторические фигуры в сочинении Феофана Прокоповича «Показание прореченнаго прежде в словесех Божиих и давно уже явившагося в мире Великаго Антихриста»
Автор: Рожкова А.В.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Русский язык. Языки народов России
Статья в выпуске: 7 т.47, 2025 года.
Бесплатный доступ
Актуальность работы связана с необходимостью детального изучения писательского наследия Феофана Прокоповича, в том числе и тех его текстов, которые ранее не подвергались лингвостилистическому и риторическому анализу. Таким текстом является сочинение Прокоповича «Показание прореченнаго прежде в словесех Божиих и давно уже явившагося в мире Великаго Антихриста», которое было создано в 1735–1736 годах. Одно из последних в своей жизни произведений Прокопович написал из-за распространенных среди раскольников мнений о том, что среди преследующих раскол государей явился Антихрист. Целью работы является описание риторических приемов и особенностей их организации и функционирования в указанном тексте. Методы исследования: обзорно-аналитический, лексико-стилистический, описательный, контекстуальный. Результаты исследования показывают, что для описания признаков («характиров») Антихриста в тексте используются разнообразные риторические средства. Наиболее востребованными оказываются фигуры «поучения» (создаваемая на основе эпитетов гипотипоза, повторы слов, рационация) и фигуры, способствующие «услаждению» (метафоры, антитезы, аллегории, гипербат). Применение риторических средств отличается сдержанностью, отсутствием громоздких словесных украшений, что, по наблюдениям исследователей, было характерно для произведений Прокоповича. При этом в анализируемом тексте риторические приемы несут не только эстетическую нагрузку, но и используются как элементы в системе доказательств.
Феофан Прокопович, диахроническая риторика, риторические фигуры, тропы, русский литературный язык XVIII века
Короткий адрес: https://sciup.org/147252149
IDR: 147252149 | УДК: 811.161.1'367 | DOI: 10.15393/uchz.art.2025.1234
Текст научной статьи Риторические фигуры в сочинении Феофана Прокоповича «Показание прореченнаго прежде в словесех Божиих и давно уже явившагося в мире Великаго Антихриста»
Благодарности. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-28-00696,
Сочинение Феофана Прокоповича «Показание прореченнаго прежде в словесех Божиих и давно уже явившагося в мире Великаго Антихриста» (далее «Показание») было создано в 1735– 1736 годах. Датируемый 1812 годом поздний список этого сочинения находится в Национальной библиотеке Республики Карелия, на сайте которой размещена электронная публикация ру-кописи1.
Краткая информация о сочинении в связи с историей его создания содержится в некоторых источниках2. Прокопович написал «Показание» из-за распространенных среди раскольников мне
ний о том, что среди преследующих раскол государей явился Антихрист. Отсутствие этого текста как в составе академического собрания сочинений Прокоповича3, так и в виде отдельного издания, вероятно, и обусловливает выпадение «Показания» из круга исследований, посвященных рассмотрению языка произведений Феофана Прокоповича4.
Необходимость полного изучения лингвостилистических и риторических особенностей сочинений Прокоповича с привлечением новых источников определяет актуальность настоящей работы, результаты которой дополнят и уточнят имеющиеся специальные изыскания на материале разножанровых текстов Феофана [3], [4], [6], [7], [9], [11]. Целью данной работы является описание риторических приемов и особенностей их организации и функционирования в тексте «Показания». Достижению поставленной цели будут способствовать лексико-стилистический, описательный, контекстуальный методы исследования.
Изначально Прокопович планировал включить в свой труд две части. В первой содержится описание «безъименное великаго Антихриста», во второй части, которую автор не успел создать, предполагалось описание папы Римского («а другая произнесет примечания характиров тех, – что оныя ясно видимы суть в еп[ис]к[о]пе ветха-го Рима <…>» (1 об.)5.
О том, что Прокопович планировал вторую часть, свидетельствуют отдельные комментарии в первой части:
«Наипаче же утвердится толкование сие во второй части сея нашея книжицы, где предложим пророчества сего событие» (50–50 об.); «когда мы во второй сего нашего следования части ясно то на очи покажем» (71).
В первой части содержатся семь глав, каждая из которых посвящена описанию «харак-тира». Прокопович определяет «характиры» как «начертания, знаки»: «Дело показания сего совершается в предложении характиров, или начертаний, знаков и пятен Антихристовых» (1). В первой главе дается комментарий имени Антихриста, представлены размышления о происхождении: «о роде и рождении Антихристове» (17 об.). Во второй главе Прокопович утверждает, что Антихрист не один человек: «Антихрист не одноличный человек, но многоличное владычество» (26 об.). Третья глава посвящена такому признаку, как длительное существование («многолетие») Антихриста, четвертая – «прелести» Антихриста (34 об.), пятая и шестая – таким признакам Антихриста, как «мучительство» (40 об.) и гордость, седьмая глава – духовному или церковному чину Антихриста.
Каждая глава представляет собой перечень доводов, направленных на доказательство признаков Антихриста. Прокопович использует слово довод , подчеркивая последовательность своих рассуждений и оценивая аргументы из других источников:
Разсмотрим, во первых, довод противников (18 об.), Надлежит им иных к сему доводов приискивать (21 об), противников довод о единоличии Антихристове весма недействителен есть (21 об.), что покажем ясно доводами следующими (62), что из следующих доводов ясно увидим (77 об.).
В изложении этих аргументов Прокопович ссылается на разные источники (псалмы, Евангелия, послания, сочинения церковных историков, богословов) и приводит большое количество разных по объему цитат – от отдельных словосочетаний до пространных фрагментов.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Текст «Показания» был создан перед кончиной Прокоповича в 1735–1736 годах. Последние десять лет жизни автора были наиболее сложными, поскольку пришлись на время после смерти Петра Первого. Будучи при жизни государя его соратником и единомышленником, Прокопович и после смерти Петра продолжал отстаивать петровские преобразования и боролся с противниками реформ. Эта борьба отразилась на литературной и научной деятельности Прокоповича. Как отмечает В. М. Ничик, «талант Прокоповича, столь плодотворный в сфере науки, истощался и тратился в этой борьбе, разменивался на судебные мелочи, доносы, интриги» [5: 16]. Т. Е. Автухович так характеризует проповеди, созданные Феофаном в период правления Анны Иоанновны (1730–1740): «Проповеди П. в этот период, лишенные яркого жизненного материала, замыкаются в рамках церковного красноречия, в них остро звучит мотив бренности жизни» [1: 494]. Об этом же периоде В. Г. Смирнов пишет следующее:
«После воцарения Анны процесс творческой деградации резко ускорился. До низшей отметки упал художественный уровень произведений Прокоповича, да и можно ли назвать произведениями бесконечные панегирики императрице» [12: 124].
В связи с такими оценками позднего творчества Прокоповича представляется важным в настоящем исследовании проследить, насколько полно и последовательно в одном из своих последних трудов автор придерживается теоретических положений, изложенных в его учениях, касающихся, в частности, основ риторического искусства. Описание риторических приемов содержится в трактате «De arte rhetorica libri X» («Об искусстве риторическом десять книг»), созданном Прокоповичем во время его преподавания в Киево-Могилянской академии. Каждая из десяти книг этого трактата имеет свои содержание и объект описания [10: 6–7]. Книга IV «О стиле» в главах XVIII–XI включает описание фигур речи, в состав которых Прокопович включал и тропы. В главе VIII описываются «служащие для поучения» восемнадцать фигур [10: 235–251]; в главе IX говорится о двадцати семи фигурах, «способствующих услаждению» [10: 251–259]; глава X посвящена тридцати двум фигурам, относящимся «к возбуждению переживаний» [10: 259–269]. В XI главе Прокопович соотносит роды фигур с частями текста и разными стилями [10: 259-269].
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА И ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ текста «Показания» свидетельствует об использовании фигур всех трех типов. Довольно распространенными являются описания - «гипотепоза», «характеризм», отнесенные Прокоповичем к фигурам «поучения». Необходимыми элементами при описании различных предметов и явлений становятся эпитеты. В трактате Прокоповича «Об искусстве риторическом десять книг» эпитеты не выделены и не описаны как самостоятельная фигура, хотя сам термин эпитет используется [10: 254, 257]. Тема «Показания» обусловила использование традиционных для библейских источников эпитетов: человеколюбивый Бог (2), единороднаго своего сына (2), тленное наше естество (2), в огненных языцех (15 об.).
Среди эпитетов обращают на себя внимание многочисленные образования с приставкой не- , а также двухкорневые слова. Пристрастие Феофана к такой лексике уже было отмечено исследователями [8: 96, 97]. В «Показании» композиты и слова с приставкой не- являются важными элементами характеристик как самого Антихриста, так и его последователей:
Шестый Антихристов характир - безприкладная и неслыханная гордость (43 об.); Антихрист <..> всегда жаждать того будет и пить кровь неповинную допьяна (43); Но понеже неции или от малоумия, или от не-тщательнаго взыскаяния, или нарочно по страстям своим показуют некия признаки Антихристовы ложныя (4 об.-5); Сюды надлежит и то, когда кто <..> подавал бы иной некой вымышленной и потому сумнителный, неизвестный и ненадеждный спасения образ (40 об.-41); что и кровопролительнаго свирепства на непослушных себе употребит (37), от лукавых и злохитростных человек происходят (37 об.).
Типичное использование одиночного эпитета или довольно частотная парная организация эпитетов изредка дополняются многокомпонентными рядами определений: плутовским да слабым , бедным , студеным и студным папежских некиих богословцев вымыслам (7 об.).
В некоторых случаях эпитеты несут дополнительные оценочную и смысловую функции. Так, развенчивая существующие представления о подобном Христу происхождении Антихриста, Прокопович прибегает к прилагательным с отрицательной коннотацией, сочетающимся с названиями сакральных понятий, которые прочно ассоциируются с именем Христа: воскресение и на небеса вознесение, хотя притворное и хитростное (17 об.), безумное Антихристу рождество (17 об.).
К числу востребованных следует отнести разнообразные повторы (аналепсис, эпанафора). Особая экспрессия достигается через повторы одного и того же слова или однокоренных слов в границах предложения как в произвольном порядке, так и в фиксированной позиции, создавая тем самым определенный ритм (см. последний пример в подборке ниже):
Антихристу быть в едином только лице , единым только (18), Посмотри же, любимый читателю, которому любима истинна (28 об.), но мало того делал и делает своею силою (34), достохвальное дело делает и похвалы за то, а не хулы достоин (47), Если бо он есть всех Христовых противников злейший , если превосходной ради злобы тако нарицается , естли от всех прочих частных Антихристов <..> отличается (6).
Метафоры в большей части имеют морфологическую именную природу и соответствуют книжно-славянской стилистической традиции:
истинны разоритель (34 об.), душ человеческих пагуба (34), лсти неправды (40), спасения образ (41), сила словес (46), безбожия обнажение (48), от вина любодеяния (33), тайне беззакония (28), сын погибели (19 об.), человек беззакония (47), яд лести (33 об.).
Помимо метафоры довольно активен и метонимический перенос:
златом , и камением драгим , и бисером украшеннаго (36 об.), церкве с[вя]тей напасти делали (7), из ветхозаветной церкви перешел в новозаветную (53), понеже церковь Христова , поелику разумеется народ, во Христа верующий (68).
На фоне словесных средств образности (эпитетов, метафор, метонимий), выдержанных в стиле церковной книжности, обращают на себя внимание единичные случаи, к которым можно отнести следующие примеры синекдохи:
Что все шаленым головам так не трудно, как не трудно было вымыслить безумное Антихристу рождество (10 об.), Сие скажет разве какий нарочитый шпинь, а поверит разве безмозглая голова (25 об).
Использованная в предложениях стилистически сниженная лексика (прежде всего сопровождаемые слово голова прилагательные) выражает эмоционально-оценочную реакцию автора.
Характерное для других произведений Прокоповича использование аллегорий [6: 79] находит умеренное отражение и в анализируемом тексте. В частности, аллегорией Антихриста становится заимствованный из Священного писания образ «страшнаго зверя седмоглавнаго» с внешними признаками рыси, медведя, льва (41 об.-42).
Противопоставление обсуждаемых в сочинении идей, понятий, свойств, качеств происходит посредством антитезы, антитетона, оксюморона:
не о жидах говорит, плотских израилитах, но о из-раилитах духовных (15), не вечное пребывание, но конечное (15), не одноличный человек, но многоличное владычество (26 об.), купленные ценою неоцененною (47).
Сравнения (гомэозы) выражаются виде конструкций с союзами как ... так, яко ... тако : что яко не мощно бы познать Спасителя <.. .> тако не мощно познать и губителя <.> (3 об.), так не трудно , как не трудно (17 об.). Более сложной в смысловом и структурном отношении является аллойоза - фигура, определяемая Прокоповичем как «некое украшенное сравнение», при котором возникает противопоставление «таким образом, что выявляется противоположность предметов» [10: 236]:
Помешалось бы злодейство с добродетелию: превозносить себе паче Бога истиннаго крайнее злодеяние есть, а превозносится выше поганых божков есть христианская добродетель (47 об.).
Примеры гиперболы свидетельствуют о безграничном противостоянии добра и зла, веры в Бога и язычества. Лексическим центром таких тропов становятся слова мир, селенная , земля, сопровождаемые определительным местоимением весь:
к сопротивлению тому весь мир привести желающее (18 об.), весь мир прелщен был в толь малом времяни (32), на весь мир имевшая быть прелесть (34), давно уже во всем мире отвержено стало многобожие (46 об.), не могут яда своего на всю селенную пролить (6 об.), всю землю привести в такий страх и ужас (29).
Некоторые фигуры задействованы в синтаксической организации текста. Гипербат отражается в инверсии подлежащего и сказуемого: А толикое число писаний предложили мы нарочно для того <.> (68 об.), определений и определяемых слов: сидение его гордостное и вла-детелское (53 об.), компонентов субстантивных сочетаний: стены часть (24 об.), земли удивление (29).
Вставные конструкции (парентезы) включают комментарии автора о порядке изложения аргументов и теме рассуждения, цитаты из разных источников и ссылки на них, реже - авторские оценки, эмоциональные реакции: что впред в ином особливом характире и пространнее покажем (37), каковыи - о горе! - многии были и ныне суть (5 об.). Отразившееся в раннем творчестве «яркое синтаксическое новаторство» [6: 80] Прокоповича находит продолжение в одном из его последних произведений, в котором автор делает парентезы важным синтаксическим средством для емкого выражения дополнительной смысловой или оценочной информации.
Следует особо выделить вопросительные предложения, которые в большом количестве сконцентрированы в отдельных частях текста (например, в первой главе используются двадцать вопросительных предложений). Помимо предложений, представляющих собой риторические вопросы, используются вопросительные конструкции, которые участвуют в образовании фигуры рационация (или диалогизм, апоплаза), предполагающей ответы автора:
Показали ж бы нам, откуда имеют родословные книги, когда инде писанные, и по чьему повелению или народному согласию и каким свидетелством закрепленные? Но век того суесловные плуты не покажут (8 об.-9);
Думай же теперь кто, что толь страшное отступление, едва не все повсюду церкви во многих превеликих церквах разоряющее, зделает некто один человек и то в малом времяни? Была бы таковая дума весьма сумазбродна (24 об.).
Разные виды вопросов выполняют не только экспрессивную функцию, но и поддерживают логику рассуждений и структуру текста. Таким примером может являться третья глава, в которой более десяти вопросов включены в систему доказательств в пользу многолетнего существования Антихриста:
Сие ж ли может статься в полчетверта года? (29), В полчетверта ж ли года зверь тот толикую возъиме-ет силу? (29 об.), Зде уже я шлюсь и на крайняго глупца да того ж и пьянаго, скажет ли, что все то зделается в полчетверта года? (33).
Все вопросы, разные по объему и структуре, имеют сходное смысловое содержание и обязательно включают обозначение числа, усиливая подобным повтором аргументы, направленные против предположения, что временем действия Антихриста «будет время трех лет и шести ме-сяцей, то е[сть] полчетверта года» (27).
В построении текста используется фигура эпанод, «когда после краткого изложения двух и более предложений, мы возвращаемся к ним по отдельности, разделяя и определяя их» [10: 244]:
Человеколюбивый Бог между безчисленными бла-гоутробия своего к роду человеческому знамении сия два главнейшия благодеяния показал. Первое: в устроении великаго своего промысла о спасении нашем, что сделал послал в мир единороднаго своего сына_во-плотитись от Девы, страдания же и горькую смерть за грехи сего мира претерпети. А другое сие, что подал нам оберегательство от погибели, которую хотя и тленное наше естество, когда благодати Божией самовольно себя лишает, различными грехопадениями приносит нам, однако же вящше тщится устроить нам душегубный враг Диавол (2).
Развернутое изложение каждого тезиса в этом отрывке сопровождается еще и аллойозой: противопоставление выражается в словах спасение и погибель , а также в номинации противоположных сакральных лиц (единороднаго сына, Девы и Диавола ).
Особенность использования риторических фигур в исследуемом тексте заключается в том, что они являются не только средством образности и экспрессии, но и выступают как примеры-иллюстрации в структуре доказательства. Так, во второй главе обращает на себя внимание система аргументов, построенная с привлечением внушительного числа примеров синекдохи. Сам термин и его описание в тексте «Показания» не представлены, однако Прокопович комментирует суть этого явления:
Часто как в обычном человеческом разговоре (во всех, чаю, языках), так и в Священном писании един-ственнаго числа именем множество означается, примеры следующия то показуют весьма ясно и не сумни-тельно. Говорим обычно: «Турок взял Царь-город» <...> «Былау нас война с шведом» <...> и проч . (19).
Эти и другие примеры синекдохи из библейских текстов ( дщерь Сионя , дщерь Вавилоня ) нужны автору для подтверждения тезиса: «Антихрист не одноличный человек, но многоличное владычество, именем одного лица нарицаемое» (26 об.), имея в виду, что использованная для Антихриста метафорическая номинация « сын беззакония » «не одного некоего означает, но многих» (19 об.).
Подобную особенность наблюдаем также в шестой главе, где перечислены известные из текстов Священного писания образные номинации христианской церкви:
Церковь Христова <..> нарицается она тело Христово, Невеста Христова, мысленный Сион, сад, виноград, Христово стадо, гора Божия, полки Божии, царство Израилево, небесное, Христово, Божие и проч. <...> (62-62 об.).
Такой пространный ряд не является средством создания образности, не несет на себе функций «услаждения» или «возбуждения переживаний». Это элементы системы доказательств, которые рассчитаны на подготовленного, знающего читателя или слушателя, о чем говорит сам автор:
Ибо кто в чтении Священных писаний мало упражняется, тому как иная многая наречия, ушам его необычная, так и народ христианский невестою или домом, градом и проч. яко странная и невероятная показу-ются; а когда кто в чтении писания заобычен станет, тот не только таковых речи образов не будет иметь за дивныя и дикия, но и скоро узнает, что чрез таковыя звания разумеется (68 об.-69).
ВЫВОДЫ
«Показание» Феофана Прокоповича демонстрирует использование разнообразных риторических средств, среди которых наиболее востребованными оказываются фигуры «поучения» (гипотипоза, повторы) и способствующие «услаждению» (метафоры, антитезы, аллегории, ги-пербат). Все риторические средства, в том числе и относящиеся к «возбуждению переживаний» (гиперболы, парентезы), подчинены не только центральной теме произведения – всестороннему описанию Антихриста, но и высвечивают другие вопросы религиозного и богословского характера.
Созданное Прокоповичем в конце жизненного и творческого пути произведение сохраняет особенности, характерные для его прежних стихотворных и ораторских сочинений: умеренность в использовании украшающих средств, ясность, композиционная стройность [2: 60], [6: 84]. Отсутствие в сочинении Феофана риторической вычурности, чрезмерной словесной пышности, вероятно, следует связывать со стремлением писателя построить последовательную систему тезисов и аргументов, в которой тропы и фигуры подчиняются замыслу автора, сглаживая некоторую строгость этой системы и придавая ей эстетическую завершенность.