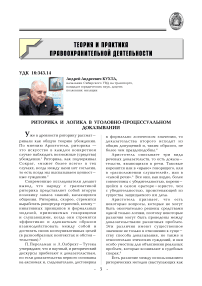Риторика и логика в уголовно-процессуальном доказывании
Автор: Кухта Андрей Андреевич
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Теория и практика правоохранительной деятельности
Статья в выпуске: 2, 2008 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/140195859
IDR: 140195859 | УДК: 16:343.14
Текст статьи Риторика и логика в уголовно-процессуальном доказывании
Андрей Андреевич КУХТА, начальник Сибирского УВД на транспорте, кандидат юридических наук, доцент, полковник милиции
РИТОРИКА И ЛОГИКА В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ДОКАЗЫВАНИИ
У же в древности риторику рассматривали как общую теорию убеждения. По мнению Аристотеля, риторика — это искусство в каждом конкретном случае наблюдать возможные (средства) убеждения.1 Риторика, как подчеркивал Сократ, «может более всего» в тех случаях, когда между нами нет согласия, то есть когда мы высказываем ценностные суждения.2
Современные исследователи делают вывод, что наряду с грамматикой риторика представляет собой вторую половину запаса знаний, касающихся общения. Риторика, скорее, стремится выработать репертуар стратегий, коммуникативных принципов и формальных моделей, применяемых говорящими и слушающими, когда они стремятся эффективно и адекватным образом взаимодействовать между собой и достигать своих коммуникативных целей (в разнообразных контекстах и обстоя-тельствах).3
П. Перельман и Л.Олбрехт-Тутека утверждают, что и научный, и риторический дискурсы прибегают к доказательствам, но если доказательства первого основаны на аксиомах и, следовательно, достоверны в формально логическом значении, то доказательства второго исходят из общих допущений и, таким образом, не более чем правдоподобны.4
Аристотель описывает три вида речевых доказательств, то есть доказательств, являющихся в речи. Таковые коренятся или в «нраве» говорящего, или в «расположении слушателей», или в «самой речи».5 Все они, как видно, более совместимы с убедительностью, коренящейся в самом ораторе-юристе, чем с убедительностью, проистекающей из существа защищаемого им дела.
Аристотель признает, что есть некоторые вопросы, которые не могут быть окончательно решены средствами одной только логики, поэтому некоторые различия могут быть проведены между доказательствами различных проблем. Эти различия имеют существенное значение не только в отношении к существу способа доказывания, но также и относительно этических суждений, и они особо уместны для объяснения реальных проблем, которые возникают в судебных спорах.6
Есть различие между использованием риторических методов (выступающих как

Вестник Сибирского юридического института МВД России заместитель собственно доказательства – факта7 ) для поддержания гипотезы, которая не поддержана доказательством, и использованием риторических методов для того, чтобы укрепить в убедительной манере гипотезу, которая поддержана каким-то доказательством. Есть различие между доказыванием, где имеет место математическая демонстрация, основание для которой является полным, и доказыванием с оспариванием фактического обнаружения доказательства, из-за чего доказывание неизбежно остается неполным.
Доказательство в судебных разбирательствах, как правило, является неполным; и, в отличие от математической демонстрации, реконструкция прошлых событий в судебном процессе должна быть произведена в пределах определенной вероятности, а не абсолютной точности. Оба эти условия предлагают, чтобы судья сделал выбор между конкурирующими аргументами, вместо того чтобы просто уступить перед непреклонной, абсолютной истиной единственно верной демонстрации. Необходимость выбора между двумя конкурирующими гипотезами, каждая из которых поддержана, по крайней мере, неким доказательством, ставит перед судьей этическую проблему. Поэтому судебная вероятность описывается в этических красках. Судебная истина — это моральная убежденность судьи в правильности своего выбора.
В этих обстоятельствах, устраняющих логическую демонстрацию в чистом виде, остаются два возможных метода, которые могут предъявить права на объяснение природы судебной реконструкции прошлых событий: искусство диалектики и искусство риторики. Диалектика есть искусство показа превосходства одного аргумента над другим, использования для убеждения только линейных логических прогрессий рассуждения; в теории это исключает риторику. И диалектика, и риторика имеют фундаментальное значение для процесса убеждения в контексте судебного процесса. Едва ли возможно, чтобы одно из них могло бы существовать в судебном контексте без другого. Сам Аристотель расценил риторику как контрапункт к диалектике. Ясно, что процесс судебного рассуждения от доказательства к гипотезе — это, по существу, диалектика в действии.
Психологические факторы, неизбежные в судебном процессе, лишают возможности исключать риторическое убеждение как жизненный компонент судебного доказывания. Под психологическими факторами я не подразумеваю просто любую эмоциональную реакцию судьи, которую он может иметь в отношении доказательства или способа его представления, хотя это, конечно, тоже важно. Я подразумеваю в первую очередь психологический компонент, который, по моему мнению, неизбежно вовлечен в оценку вероятностных проблем, присущих человеческому поведению.
В зале суда мы не знаем, что было на самом деле, но мы слышим, что говорят о том, что было на самом деле, то есть мы воспринимаем знаки того, что было на самом деле (или не было). Речь — то, что для участников судебного разбирательства действительно. Относительно утверждения о чем-то мы можем лишь заключить, что утверждение верно (в соотношении с другими утверждениями, делаемыми в судебном заседании), но то, что действительно то, о чем утверждает утверждение, — этого мы определить не можем, если сделать это не обязывает нас закон или профессиональный долг. Но истинность утверждения, сделанного в обвинительном заключении (акте), может только презюмироваться.
В этом контексте становится понятным значение риторики в суде (прежде всего, в суде присяжных) как одной из стратегий ведения дела, основная задача которой состоит в порождении недоверия, подозрения к фактам и системам факторов, на которые они опираются (например, показания свидетеля; сам свидетель как физическое лицо),
Теория и практика правоохранительной деятельности

составляющим «дело» противоположной стороны, и одновременно в формировании положительного отношения к «своему» делу, своей интерпретации событий.
Было бы, конечно, утешительно предположить, что в зале суда можно обеспечить мирную атмосферу, в которой прошлые события могли быть восстановлены участниками процесса в спокойной, логической манере. Но практически этого не было, нет и не будет никогда. Судебный процесс — борьба соперничающих сторон, у которых есть много оснований, чтобы идти до конца, чтобы не проиграть, но выиграть; цель стороны в деле состоит не столько в том, чтобы исследовать объективную истину, сколько убедить суд, устанавливающий факты, в том, что предлагаемая ею версия события, ставшего предметом спора, его интерпретация — правильные. Закон может стремиться к решениям, достигаемым на основе чистой логики, но это стремление подвергается искажению условиями жесткой борьбы на злобу дня.
Иногда существование промежутка между рациональной причиной и риторическим убеждением может объясняться неполнотой доказательств, с которыми вынужден иметь дело суд, обязанный разрешить дело, но в других случаях это, кажется, относится к вторжению психологических факторов. В то время как логика не принимает во внимание эти психологические факторы, риторика как раз делает это в наиболее полном виде.
При разговоре относительно предполагаемых фактов реального события участники речевого общения так или иначе исходят из систем конвенций, имеющих для них общую ценность. Некоторые из них официально закреплены в тексте закона, некоторые — нет, но они не оспариваются. Это общие места, общепринятые суждения, которые служат исходными посылками в рассуждениях о правовом и неправовом, реальном и нереальном, плохом и хорошем. Определенный набор базовых высказываний, выражающих сущность отношения власти к личности, обществу, знанию, образует своего рода аксиоматическое, топологическое ядро права. Это ядро образует смысловой центр для понимания текста закона. Аксиоматические суждения, принимаемые без доказательств в качестве истинных, служат основой для построения всех прочих высказываний по поводу правового.
Всякий коммуникативный акт перенасыщен социально и исторически обусловленными кодами и от них зависит. Не мы говорим с помощью языка, а язык говорит нами: языковый опыт, языковые конвенции, осознаваемые и неосознаваемые, усвоенные нами. Мир знаков отсылает к миру идеологий, нашедших выражение в уже состоявшихся способах общения. Мы присоединяемся к точке зрения, что убеждение и аргументация являются необходимыми составляющими единого коммуникативного процесса. Следует думать, что судебное доказывание включает в себя рациональную аргументацию, а также нравственное и эмоциональнопсихическое убеждение.
-
1 Аристотель. Поэтика / Аристотель ; пер. с древнегреч. О.П.Цыбенко. – М., 2000. – С. 8, 9.
-
2 Платон. Горгий // Диалоги : в 2 т. – М., 2006. – С.146.
-
3 Напр.:Франк, Д. Семь грехов прагматики: тезисы о теории речевых актов, анализе речевого общения, лингвистике и риторике / Д. Франк // Новое в зарубежной лингвистике. – М., 1986. – С.363, 371.
-
4 Реrelman Ch., Olbrechts-Tyteca L. Traite de lArgumentation. La nouvelle rhetorique. 2-e edition (Editions de linstitut de Sociologie Universite Libre de Bruxelles). – Bruxelles, 1976. – Р. 6.
-
5 Аристотель. Риторика / Аристотель. – С. 9.
-
6 Там же. – С. 10.
-
7 По выражению Аристотеля, это искусственные доводы , целиком и полностью созданные оратором.
Список литературы Риторика и логика в уголовно-процессуальном доказывании
- Аристотель. Поэтика/Аристотель; пер. с древнегреч. О.П.Цыбенко. -М., 2000. -С. 8, 9.
- Платон. Горгий//Диалоги: в 2 т. -М., 2006. -С.146.
- Франк, Д. Семь грехов прагматики: тезисы о теории речевых актов, анализе речевого общения, лингвистике и риторике/Д.Франк//Новое в зарубежной лингвистике. -М., 1986. -С.363, 371.
- Реrelman Ch., Olbrechts-Tyteca L. Traite de lArgumentation. La nouvelle rhetorique. 2-e edition (Editions de linstitut de Sociologie Universite Libre de Bruxelles). -Bruxelles, 1976. -Р. 6.
- Аристотель. Риторика/Аристотель. -С. 9.