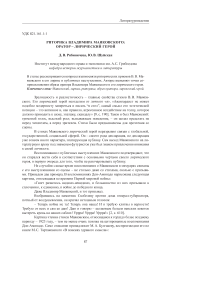Риторика Владимира Маяковского: оратор – лирический герой
Автор: Рябиничева Дарья Викторовна, Шуйская Юлия Викторовна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются вопросы взаимосвязи риторических приемов В. В. Маяковского в его лирике и публичных выступлениях. Авторы выявляют точки соприкосновения образа оратора Владимира Маяковского и его лирического героя.
Маяковский, лирика, риторика, образ оратора, лирический герой
Короткий адрес: https://sciup.org/146122014
IDR: 146122014 | УДК: 821.161.1-1
Текст научной статьи Риторика Владимира Маяковского: оратор – лирический герой
Зрелищность и реалистичность – главные свойства стихов В. В. Маяковского. Его лирический герой неотделим от личного «я». «Авангардист не может подобно модернисту запереться и писать “в стол”, самый смысл его эстетической позиции – это активное и, как правило, агрессивное воздействие на толпу, которое должно приводить к шоку, эпатажу, скандалу» [9, с. 190]. Таков и был Маяковский: громовой голос, высокий рост, вызывающее поведение, – он желал предстать не перед читателем, а перед зрителем. Стихи были предназначены для прочтения со сцены.
В стихах Маяковского лирический герой неразрывно связан с глобальной, государственной, социальной сферой. Он – своего рода декларация, но декларация уже совсем иного характера, эпатирующая публику. Сам выход Маяковского на литературную арену под знаменем футуристов уже был знаком привлечения внимания к своей личности.
Воспоминания о публичных выступлениях Маяковского подтверждают, что он старался вести себя в соответствии с основными чертами своего лирического героя, в первую очередь для того, чтобы не разочаровывать публику.
Не случайно самые яркие воспоминания о Маяковском в мемуарах связаны с его выступлениями со сцены – не столько даже со стихами, сколько с призывами. Приведем два примера. В воспоминаниях Дон-Аминадо нарисована следующая картина, относящаяся ко времени Первой мировой войны:
«Газет развелось видимо-невидимо, и большинство из них призывали к сплочению, к единению, к войне до победного конца.
Даже Владимир Маяковский, и тот призывал.
Взобравшись на памятник Скобелеву против дома генерал-губернатора, потный от воодушевления, он кричал истошным голосом:
– Теперь война не та! Теперь она наша! И я требую клятвы в верности! Требую от всех и сам ее даю! Даю и говорю – шелковым бельем венских кокоток вытереть кровь на наших саблях! Уррра! Уррра! Уррра!» [2, с. 610].
Картина чтения стихов Маяковским, относящаяся к гораздо более позднему периоду – 1923 году, – тем не менее очень похожа на цитированные воспоминания Дон-Аминадо. Само описание принадлежит М. А. Булгакову, воспроизводим его по книге М. С. Тартаковского «В поисках здравого смысла»:
«Красочно описывает очевидец Михаил Булгаков “наш ответ лорду Керзону” в середине мая 1923 года: “В Охотном во всю ширину шли бесконечные ряды, и видно было, что Театральная площадь залита народом сплошь… Медные трубы играли марши. Керзона несли на штыках, сзади бежал рабочий и бил его лопатой по голове. Голова в скомканном цилиндре моталась беспомощно в разные стороны. За Керзоном <…> выехал джентльмен с доской на груди: “Нота”, затем гигантский картонный кукиш с надписью: “А вот наш “ответ” <…> А напротив, на балкончике под обелиском Свободы, Маяковский, раскрыв свой чудовищный квадратный рот, бухал над толпой надтреснутым басом: …британ-ский лев вой! Ле-вой! Ле-вой!
– Ле-вой! Ле-вой! – отвечала ему толпа. Из Столешникова выкатывалась новая лента, загибалась к обелиску. Толпа звала Маяковского. Он вырос опять на балкончике и загремел:
– Вы слышали, товарищи, звон, да не знаете, кто такой лорд Керзон! – И стал объяснять: – Из-под маски вежливого лорда глядит клыкастая морда!!”
(У М. Чудаковой, откуда взято описание, – “клыкастое лицо” с пояснением, что подлинно употребленное слово, видимо, “морда”)» [10, с. 139].
Сам Маяковский производил впечатление человека огромного, богатырского роста. Несколько выдержек из воспоминаний о нем: «…увидев еще издали выделяющуюся в толпе посетителей рослую фигуру Маяковского… стоявший на эстраде Владимир Владимирович казался великаном, касающимся бритой головой почти самого потолка» [4, с. 180–182].
В творчестве Маяковского факты биографии подвергаются переосмыслению, и лирический герой наделяется четкими чертами. Эти черты Маяковский старался воплощать и в своих выступлениях на сцене, и в общении с людьми. Именно поэтому восприятие его маски так срослось с восприятием его личности. Как пишет Л. Я. Гинзбург: «Читатели 1830-х годов недовольны были тем, что Бенедиктов, вместо наружности “пламенного поэта”, обладал наружностью “геморроидального чиновника”. Это не случайная читательская придирка. Настоящий лирический герой чаще всего зрительно представим. У него есть наружность. Тынянов говорит о значении портретов Блока. Читатели знали о тяжелом взгляде темных глаз Лермонтова, о росте и голосе Маяковского» [1, с. 152].
Средствами создания этого лирического героя, даже выходящего за рамки поэзии, являются ключевые приемы. Например, это прием гиперболы, представления об огромности поэта, его голоса, объектов во Вселенной, окружающих его: «Солнце! / Отец мой! / Сжалься хоть ты и не мучай! / Это тобою пролитая кровь моя льется дорогою дольней. / Это душа моя / клочьями порванной тучи / в выжженном небе / на ржавом кресте колокольни!» («Я»); «Я сошью себе черные штаны / из бархата голоса моего. / Желтую кофту из трех аршин заката. / По Невскому мира, по лощеным волосам его, / профланирую шагом Дон-Жуана и фата. // Пусть земля кричит, в покое обабившись: / “Ты зеленые весны идешь насиловать!” / Я брошу солнцу, нагло осклабившись: “На глади асфальта мне хорошо грассировать!”» («Кофта фата»); «Я жду, / пока, / подняв резную главку, / домовьей слежкою умаяна, / ко мне, / к большевику, / на явку / выходит Эйфелева из тумана» («Париж»).
Сопоставляя приемы в творчестве Маяковского и Блока, И.С. Правдина утверждает: «Герой Маяковского более активно противостоит миру “жирных”; там, где Блок говорит – “Нет!”, Маяковский восклицает – “Долой!”. Романтический контраст героя и “жирных” у Маяковского значительно сильнее. Он подчеркнут фантастическими гиперболами. Лучшие свойства человека, сконцентрированные в лирике Маяковского, благодаря гиперболе выступают предельно заостренными; это – человечность в ее высшем проявлении» [8, с. 17].
Комментируя гиперболы в творчестве Маяковского, исследователь его творчества З. Паперный пишет: «Сила гиперболы Маяковского – в ее ясной идейной направленности. И вместе с тем – в ее художественной убедительности. Мало связать образ нового мира с солнцем – нужно художественно закрепить, воплотить в живом, человечески непосредственном, индивидуальном образе это гиперболическое сравнение. В противном случае перед нами окажется отвлеченная, худосочная аллегория, которую читатель воспринимает только логически. Образы солнца и поэта покоряют нас тем, что в них воедино слиты идейная сила, значительность и могучее человеческое обаяние» [6, с. 15].
Столь же часто в творчестве Маяковского используется прием реализации стертой, давно употребляющейся в языке метафоры. Примеры этого есть как в его стихах, так и в выступлениях со сцены. В книге Карабчиевского упоминается множество сохранившихся воспоминаний о шутках Маяковского во время выступлений:
– Коля звезда первой величины.
– Вот именно. Первой величины, четырнадцатой степени [3, с. 72].
– Ваши стихи не греют, не волнуют, не заражают.
– Я не море, не печка и не чума [Там же, с. 78].
– Боюсь, присутствующий здесь Маяковский разделает меня под орех.
– Я не древообделочник! [Там же, с. 79]
Выражение молить Бога в стихах Маяковского превращается в целую сцену: «И, надрываясь / в метелях полуденной пыли, / врывается к богу, / боится, что опоздал, / плачет, / целует ему жилистую руку, / просит – / чтоб обязательно была звезда! – / клянется – / не перенесет эту беззвездную муку!» («Послушайте!»).
Достаточно часто употребляющееся сравнение злой, как собака тоже становится материалом для стихотворения:
Ну, это совершенно невыносимо! Весь как есть искусан злобой. Злюсь не так, как могли бы вы: как собака лицо луны гололобой – взял бы и все обвыл.
Что это за безобразие!
Сплю я, что ли?
Ощупал себя: такой же, как был, лицо такое же, к какому привык. Тронул губу, а у меня из-под губы – клык.
Скорее закрыл лицо, как будто сморкаюсь.
Бросился к дому, шаги удвоив.
Бережно огибаю полицейский пост, вдруг оглушительное:
«Городовой!
Хвост!»
Провел рукой и – остолбенел!
Этого-то, всяких клыков почище, я и не заметил в бешеном скаче:
у меня из-под пиджака развеерился хвостище и вьется сзади, большой, собачий.
И когда, ощетинив в лицо усища-веники, толпа навалилась, огромная, злая, я стал на четвереньки и залаял:
Гав! гав! гав!
(«Вот так я и сделался собакой»)
Подобных примеров в творчестве Маяковского множество. Таким образом, единство его лирического героя базируется не только на единых чертах, а еще и на единых приемах и наполнении их в разных стихотворениях различным содержанием.
Для лирического героя Маяковского, если рассматривать его в сопоставлении с лирическими героями других поэтов, характерна большая активность, особенно в ранних стихотворениях: «У раннего Маяковского личного, субъективное начало возникает в произведениях не как подтекст; оно чрезвычайно активно. Все увиденное резко и подчеркнуто преломляется сквозь его, “маяковскую” призму. И тогда уже трудно сказать, что это – черта реальности или момент внутреннего переживания» [7, с. 48].
Связь лирического героя В. В. Маяковского и его реальной личности носит двусторонний характер: не только подробности биографии личности дают материал для поэтического воплощения лирического героя, но и лирический герой предопределяет поведение реальной личности. Речь идет о многочисленных выступлениях Маяковского на сцене, в ходе которых он выступал скорее в качестве героя своих произведений, чем реального человека. Выступления оставляли, по свидетельствам очевидцев, впечатление «огромности» Маяковского, громового голоса, что постоянно подчеркивается и в его стихах. Ранние выступления вызывали шок у публики, целый спектр всевозможных реакций – от восторга до драки. Эпатирующее поведение Маяковского на сцене (сигарета во рту, руки в карманах) гармонировало с эпатажностью его стихотворений того периода, точно так же, как уверенность его в себе как в одном из строителей нового общества в послереволюционный период вызывает его уверенное поведение на сцене.
Список литературы Риторика Владимира Маяковского: оратор – лирический герой
- Гинзбург Л. Я. О лирике. М.: Интрада, 1997. 334 с.
- Дон-Аминадо. Наша маленькая жизнь. М.: Терра, 1994. 818 с.
- Карабчиевский Ю. А. Воскресение Маяковского. М.: Рус. словари, 2000. 329 с.
- Малахов С. А. Маяковский сражается, Маяковский смеется, Маяковский издевается//Русская литература. 1993. № 3. С. 177-192.
- Маяковский В. В. Стихи //Русская поэзия. URL: http://rupoem.ru/mayakovskij/all.aspx. (Дата обращения: 02.10.2016.)
- Паперный З. О мастерстве Маяковского. М.: Сов. писатель, 1953. 443 с.
- Паперный З. Поэтический образ у Маяковского. М.: Изд-во Академии наук,1961. 511 с.
- Правдина И. С. Спор поэтов (Блок и Маяковский)//Маяковский и советская литература. М.: Наука, 1964. С. 10-33.
- Руднев В. Модернистская и авангардная личность как культурно-психологический феномен//Русский авангард в кругу европейской культуры/Научный совет по истории мировой культуры РАН. М., 1993. С. 189-193.
- Тартаковский М. С. В поисках здравого смысла. М.: Моск. рабочий, 1991. 440 с.