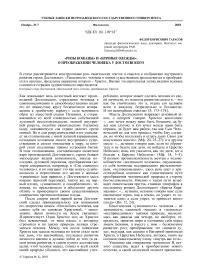«Ризы кожаны» и «брачные одежды»: о преображении человека у Достоевского
Автор: Тарасов Федор Борисович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 7 (112), 2010 года.
Бесплатный доступ
Достоевский, евангельский текст, кенозис, преображение, христос
Короткий адрес: https://sciup.org/14749795
IDR: 14749795
Текст статьи «Ризы кожаны» и «брачные одежды»: о преображении человека у Достоевского
Как показывает весь целостный контекст произведений Достоевского, стремление человека к самовозвеличению и самообожествлению водит его по замкнутому кругу бесконечного возвращения к «разбитому корыту», если вспомнить образ из известной сказки Пушкина, к открывающейся со всей очевидностью собственной духовной несостоятельности, полной внутренней разрухе, подобно евангельскому блудному сыну, оказавшемуся «на стране далече» среди свиней. Но и сам разрушительный итог указывает на столкновение с иной логикой взращивания, созидания человеком своего внутреннего существования и своего отношения к миру, за которой стоят подлинные законы устроения бытия. В этом столкновении, составляющем сюжетное ядро произведений Достоевского, герою бывает милосердно явлена возможность, иногда последняя, духовной перемены, преображения (которое совершается, например, в «Сне смешного человека»), и он ощущает это как некую судьбоносность в пересечении его жизни с жизнью «грешницы» (как правило, у Достоевского здесь именно женский персонаж), такого же, на первый взгляд, «униженного и оскорбленного» человека, но предстающего в абсолютно другом облике и приносящего своим существованием совершенно противоположные плоды.
После смерти своей первой жены Достоевский сделал принципиальную для понимания его творчества запись: «Возлюбить человека, как самого себя по заповеди Христовой, – невозможно. Закон личности на Земле связывает. Я препятствует. Один Христос мог, но Христос был вековечный, от века идеал, к которому стремится и по закону природы должен стремиться человек. Между тем после появления Христа как идеала человека во плоти стало ясно как день, что высочайшее, последнее развитие личности именно и должно дойти до того (в самом конце развития, в самом пункте достижения цели), чтоб человек нашел, сознал и всей силой своей природы убедился, что высочайшее упот- ребление, которое может сделать человек из своей личности, из полноты развития своего я, – это как бы уничтожить это я, отдать его целиком всем и каждому безраздельно и беззаветно. И это величайшее счастие» [5; 173–174].
Мысль Достоевского выражает духовный закон, о котором говорит Христос апостолам: «…кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мф. 20, 25–27); и в другом месте: «…истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное; итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном» (Мф. 18. 3–4). В полную противоположность мечтам о челове-кобожестве «маленького человека», ощущающего себя вопиюще несправедливо расчеловечен-ным, «человекомышью», здесь речь идет о хри-стоподобном кенозисе как единственном пути преображения человеческой природы в сторону богочеловечности. Именно о таком пути возвещает евангельская притча, ставшая эпиграфом к последнему роману Достоевского «Братья Карамазовы»: «…истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Ин. 12, 24).
Кенотическая «умаленность» человека – не загнанность одинокой «мыши» в «подполье» «несправедливых» законов природы, неумолимых, как дважды два четыре, но наоборот, открытость, приятие мира и осознание себя перед лицом Божиим, а вместе с ним – бесконечное развитие, рост, преображение, это «нищета духа», ведущая, как сказано в Нагорной проповеди Христа, в Царствие Небесное, которое, опять же согласно евангельскому слову, «внутрь вас есть».
Умаление как отвержение греховного Я, ветхого существа, ведет к приобретению нового естества, в своей целостной полноте причастно- го и Богу, и всему миру. Об этом говорит Достоевский устами героев-старцев. Старец Зосима в «Братьях Карамазовых», характеризуя современного человека, вспоминает слова своего «таинственного посетителя», что «всякий теперь стремится отделить свое лицо наиболее, хочет испытать в себе самом полноту жизни, а между тем выходит из всех его усилий, вместо полноты жизни, лишь полное самоубийство, ибо, вместо полноты определения существа своего, впадают в совершенное уединение. Ибо все-то в наш век разделились на единицы, всякий уединяется в свою нору, всякий от другого отдаляется, прячется и что имеет прячет и кончает тем, что сам от людей отталкивается и сам людей от себя отталкивает. <…> Повсеместно нынче ум человеческий начинает насмешливо не понимать, что истинное обеспечение состоит не в личном уединенном его усилии, а в людской общей целостности» [2; Т. 14, 275–276].
Созвучны взглядам Зосимы слова тихого и кроткого Макара в романе «Подросток»: «Христос говорит: “Пойди и раздавай твое богатство и стань всем слуга”. И станешь богат паче прежнего в бессчетно раз; ибо не пищею только, не платьями ценными, не гордостью и не завистью счастлив будешь, а умножившеюся бессчетно любовью. Уже не малое богатство, не сто тысяч, не миллион, а целый мир приобретешь! <…> Тогда и премудрость приобретешь не из-за единых книг токмо, а будешь с самим Богом лицом к лицу, и воссияет земля паче солнца, и не будет ни печали, ни воздыхания, а лишь единый бесценный рай».
Парадоксальным, на первый взгляд, образом, отсекая, оставляя мир и даже самого себя, человек приобретает «во сто крат» по евангельскому выражению («всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную» – Мф. 19, 29), поскольку предоставляет в себе место Богу и принимает мир «из рук Христовых, но принимает его уже благолепным, очищенным, освещенным Логосом» [4; 183].
Казалось бы, в первом же романе Достоевского «Бедные люди» настроение «райского блаженства» Макара Девушкина, пробужденное «весенними ароматами» и «оживлением природы» и воплощенное в «парочке горшков с баль-замичиком и гераньке» в подарок Вареньке Доб-роселовой, столь же минутно и так же безвозвратно уходит, как и «золотое детство» самой Вареньки среди «добрых селений» ее родных деревенских мест. А мир «птичек небесных», с которыми сравнил было Вареньку Девушкин и в котором звучит «неумолкаемый концерт» тех, что «не жнут и не сеют», как в финале повести «Маленький герой», напоминающий о Нагорной проповеди Христа, настолько отделен от находящегося посреди него человека, что последний выглядит «как мертвец среди всей этой радост- ной жизни» [2; 2, 293]. Однако этот полностью противоположный пустынному мраку одинокого «подполья» мир, в образе коего прорисовываются Достоевским очертания райского сада, напрямую связан именно с духовной судьбой прозревающего его человека.
Ряд ключевых мотивов и представляющих эти мотивы деталей в произведениях писателя, появляющихся в наиболее значимые в духовном смысле моменты жизни героев, восходят к образам сада и пронизывающего его небесного света как уви-денности в Боге человека и мира в их гармоническом единстве. Такое в и дение открывается героям Достоевского, когда в их внутреннем мире происходит переворот, когда выбивающее из знакомого и привычного хода жизни событие срывает пелену с их внутренних глаз и предстает та правда, о которой писатель говорит в своей речи о Пушкине: «Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость. Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудись на родной ниве», вот это решение по народной правде и народному разуму. «Не вне тебя правда, а в тебе самом; найди себя в себе, подчини себя себе, овладей собой – и станешь свободен как никогда и не воображал себе, и начнешь великое дело, и других свободными сделаешь, и узришь счастье, ибо наполнится жизнь твоя, и поймешь наконец народ свой и святую правду его. Не у цыган и нигде мировая гармония, если ты первый сам ее недостоин, злобен и горд и требуешь жизни даром, даже и не предполагая, что за нее надобно заплатить» [3; 526].
Узрение в собственной греховности первопричины той неумолимой несправедливости мира, против которой бунтует загоняющий себя в «подполье» «маленький человек», радикально меняет и его мировосприятие, и духовное устроение. Один из ярких примеров – воспоминания старца Зосимы о своем старшем брате Маркеле, умершем в юности от чахотки и почти до самой смерти насмешливо отрицавшем существование Бога. (Этот персонаж «Братьев Карамазовых» – прямое продолжение типажа Ипполита Терентьева из романа Достоевского «Идиот», желающего из протеста против уродливо несправедливых и неупразднимых законов земной жизни пойти на самоубийство.)
Внезапная перемена в душе Маркела, почувствовавшего приближение смерти, совершается в важнейший для церковной жизни христианина период – в Страстную седмицу и пасхальные дни. Мир вокруг умирающего описан Достоевским в радостно-весенних тонах (подобно «неугомонному концерту» тех, что «не жнут и не сеют», в раннем «Маленьком герое»): «Выходили окна его комнаты в сад, а сад у нас был тенистый, с деревьями старыми, на деревьях завязались весенние почки, прилетели ранние птички, гогочут, поют ему в окна» [2; Т. 14, 262–263]. Это пасхальное радостное состояние становится внутренним достоянием Маркела вместе с сознанием, что «всякий из нас пред всеми во всем виноват, а я более всех» [2; Т. 14, 262]. (Ср. с молитвой, читаемой православными христианами перед причащением Тела и Крови Христовых: «Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистину Христос, пришедый грешныя спасти, от них же первый есмь аз» [6], и с кенотической направленностью построения отношений к другому - ближнему (используя евангельское определение), а не чужому - врагу, как у «маленького человека» из «подполья».) «Милые, - восклицает Маркел, - дорогие, и чем я заслужил, что вы меня любите, за что вы меня такого любите, и как я того прежде не знал, не ценил». Входящим слугам говорил поминутно: «Милые мои, дорогие, за что вы мне служите, да и стою ли я того, чтобы служить-то мне? Если бы помиловал Бог и оставил в живых, стал бы сам служить вам, ибо все должны один другому служить... пусть же и я буду слугой моих слуг, таким же, каким и они мне» [2; Т. 14, 262].
Видение собственной греховности сопровождается пониманием, что именно она заслоняла светлую гармонию мира: «И стал он вдруг, глядя на них и любуясь, просить и у них прощения: “Птички Божии, птички радостные, простите и вы меня, потому что и пред вами я согрешил... была такая Божия слава кругом меня: птички, деревья, луга, небеса, один я жил в позоре, один все обесчестил, а красы и славы не приметил вовсе”» [2; Т. 14, 263]. Открытое искреннее исповедание греховности и сопутствующее ему всепрощение мгновенно упраздняют это темное средостение. «И одного дня довольно человеку, - говорит Маркел, - чтобы все счастие узнать. <^> Пусть я грешен пред всеми, зато и меня все простят, вот и рай» [2; Т. 14, 262-263]. «Жизнь есть рай» - его постоянное новое чувство, «и все мы в раю, да не хотим знать того, а если бы захотели узнать, завтра же и стал бы на всем свете рай» [2; 14, 262].
Точно такое же событие происходит в духовной биографии старца Зосимы в годы его молодости, в момент его внезапной внутренней перемены перед дуэлью: «Я вдруг поднялся, спать более не захотел, подошел к окну, отворил - отпиралось у меня в сад, - вижу, восходит солнышко, тепло, прекрасно, зазвенели птички. Что же это, думаю, ощущаю я в душе моей как бы нечто позорное и низкое? <...> И вдруг сейчас же и догадался... Экое преступление! Словно игла острая прошла мне всю душу насквозь. Стою я как ошалелый, а солнышко-то светит, листочки-то радуются, сверкают, а птички-то, птички-то Бога хвалят... “Господи... воистину я за всех, может быть, всех виновнее, да и хуже всех на свете людей!” И представилась мне вдруг вся правда, во всем просвещении своем» [2; Т. 14, 270]. Смелое и прямое публичное признание своей вины и испрашивание прощения, унизительное в глазах «светской публики» и поэтому требующее внутреннего подвига целенаправленного самоумаления от тогда еще молодо- го офицера, даруют ему в то же мгновение чувство неведомой прежде радости и восторга: «Господа, - во скликнул я вдруг от всего сердца, - посмотрите кругом на дары Божии: небо ясное, воздух чистый, травка нежная, птички, природа прекрасная и безгрешная, а мы, только мы одни безбожные и глупые и не понимаем, что жизнь есть рай, ибо стоит только нам захотеть понять, и тотчас же он настанет во всей красоте своей» [2; Т. 14, 272].
Таким образом, Достоевский стремится показать, что мироощущение и мировосприятие, выражаемое его героями в словах «жизнь есть рай», - воплощение вполне конкретного закона внутренней жизни человека, исходный пункт которого - в самоотвержении, отсечении греховного, стремящегося к самообожествлению естества. Причем в «райских картинах» нет никакого мечтательства и утопического игнорирования присутствия в мире зла. Об этом свидетельствуют рассуждения старца Зосимы, посвященные библейскому повествованию о страданиях Иова. Исходя не из отвлеченно-рационалистических построений, а из опыта внутреннего переживания «великой тайны человеческой жизни», Зо-сима говорит о постепенном претворении «старого горя» в «тихую умиленную радость». «Слышал я потом слова насмешников и хулителей, - обращается старец к высказываниям заочных оппонентов, среди которых, конечно, и Иван Карамазов с его поэмой о великом инквизиторе, - слова гордые: как это мог Господь отдать любимого из святых Своих на потеху диаволу... и для чего: чтобы только похвалиться пред сатаной... Но в том и великое, что тут тайна, - что мимоидущий лик земной и вечная истина соприкоснулись тут вместе. Пред правдой земною совершается действие вечной правды. Тут Творец, как и в первые дни творения, завершая каждый день похвалою: “Хорошо то, что Я сотворил”, -смотрит на Иова и вновь хвалится созданием Своим. А Иов, хваля Господа, служит не только Ему, но послужит и всему созданию Его в роды и роды и во веки веков, ибо к тому и предназначен был» [2; Т. 14, 265].
В смысловом поле подобного мироощущения и мировосприятия оказываются и те самые «клейкие листочки», о которых спорят Иван и Алеша в «Братьях Карамазовых». Весь этот ряд восходит, конечно, к образу «дерева жизни» посреди рая - символу вечной жизни, неуничтожимой никакими неумолимыми земными законами, выражаемыми формулой «дважды два четыре».
С. Г. Бочаров, анализируя развитие мотива «клейких листочков» от Пушкина к Достоевскому, отмечает, что пушкинские «клейкие листочки» - это «свежее пушкинское слово, обращенное прямо к действительности», «они значительны и они просты: никак не скажешь, что они как-то особенно обоснованы или нагружены “смыслом”»; у Достоевского же «они превращаются в идейную парадигму... в своеобразную художественно-философскую категорию и в то же время как бы в цитату из подразумеваемого смыслового контекста» [1; 217]. Однако если иметь в виду, подразумевать весь пушкинский поэтический контекст, то вряд ли можно сказать, что Достоевский «нагружает смыслом». Он выговаривает, эксплицирует смысл, заложенный у Пушкина.
По наблюдению С. Г. Бочарова, образ «клейких листочков» в «Братьях Карамазовых» первоначально рождается из уст Ивана вместе с образом «кубка», будучи у него символами одного значения – любви к жизни, жажды жизни вопреки всему, вопреки «ахинее», если использовать словечко Ивана. И точно так же у Пушкина, как уже отмечалось, параллельно выстраивается, условно говоря, «вертоградная» и «хмельная» символика.
По ходу спора Ивана и Алеши Карамазовых, как говорит С. Г. Бочаров, последний как бы «отбирает» «листочки» и противопоставляет их безнадежному «кубку», превратившемуся у Ивана из радостно-шиллеровского в грустноонегинский (тот, что появляется в финале романа в стихах Пушкина: «Блажен, кто праздник жизни рано / Оставил, не допив до дна / Бокала полного вина…»); одновременно и символизация праздника-пира жизни переходит из парадигмы «кубка» в парадигму «листочков» и «всего за ними стоящего “софийного” миропорядка» [1; 208, 220–221]. Однако исследователь не вспоминает главу «Кана Галилейская» в «Братьях Карамазовых», в которой самому Алеше праздник жизни – вечной и небесной, но реально присутствующей в земном существовании – предстает, условно говоря, в парадигме «кубка».
Весьма показательно уже само название главы, отсылающее к новозаветному повествованию о брачном пире в Кане Галилейской, где Христос совершил первое чудо, претворив воду в вино. Это повествование, читаемое над гробом умершего старца Зосимы, вырастает в чудесном сне Алеши – в полном согласии с евангельским смыслом и всем контекстом евангельских притч – в вид е ние брачного пира Царствия Небесного, участником которого стал и сам преставившийся старец: «Веселимся… пьем вино новое, вино радости новой, великой; видишь, сколько гостей? <…> А видишь ли Солнце наше, видишь ли ты Его? <…> Не бойся Его. Страшен величием пред нами, ужасен высотою своею, но милостив бесконечно, нам из любви уподобился и веселится с нами, воду в вино превращает, чтобы не пресеклась радость гостей, новых гостей ждет, новых беспрерывно зовет и уже на веки веков. Вон и вино несут новое, видишь, сосуды несут…» [2; Т. 14, 327].
Небесный пир в Царствии Божием воплощает высшую, неотмирную, если можно так выразиться, справедливость, явно противопоставленную земной, соблазняющейся властью факта, который ограничивается «кончиком носа» (зло- радство одних и смущение других по поводу того, что почивший старец «провонял»).
В главе «Кана Галилейская» «Братьев Карамазовых» мысли слушающего в полусне евангельское чтение Алеши о том, что «не для одного лишь великого страшного подвига Своего сошел Он тогда», что «доступно сердцу Его и простодушное немудрое веселие каких-нибудь темных, темных и нехитрых существ, ласково позвавших Его на убогий брак их», совершенно созвучны словам старца Зосимы, обращенным к Алеше во сне: «Чего дивишься на меня? Я луковку подал, вот и я здесь. И многие здесь только по луковке подали, по одной только маленькой луковке… Что наши дела?» [2; Т. 14, 326–327].
Исповедание ничтожной малости «луковки» человеческих дел перед лицом Творца неба и земли становится путем к радостному и всепри-миряющему единению с Ним. (В рассматриваемом контексте можно вспомнить также начало «Братьев Карамазовых», попытку игумена монастыря устроить примиряющий обед с Федором Павловичем и разрешить тем самым земельный конфликт с соседом и, конечно, финал романа, когда Алеша и мальчики, примиренные и утвержденные в «жизни будущего века», отправляются на поминки Илюши.) Причем «малость» становится способной раздвинуться (как стены комнаты в сне Алеши) и вместить в себя, соединить в себе всю вселенную, как это происходит с Алешей после его промыслительного сонного видения: «Над ним широко, необозримо опрокинулся небесный купол, полный тихих сияющих звезд. С зенита до горизонта двоился еще неясный Млечный Путь. Свежая и тихая до неподвижности ночь облегла землю. Белые башни и золотые главы собора сверкали на яхонтовом небе. Осенние роскошные цветы в клумбах около дома заснули до утра. Тишина земная как бы сливалась с небесною, тайна земная соприкасалась со звездною… Как будто нити ото всех этих бесчисленных миров Божиих сошлись разом в душе его, и она вся трепетала, “соприкаcаясь мирам иным”. <…> Но с каждым мгновением он чувствовал явно и как бы осязательно, как что-то твердое и незыблемое, как этот свод небесный, сходило в душу его. <…> Пал он на землю слабым юношей, а встал твердым на всю жизнь бойцом и сознал и почувствовал это вдруг, в ту же минуту своего восторга» [2; Т. 14, 328].
Кроме того, одна из принципиальных деталей в описании пира в небесной Кане Галилейской – пронизанность светом: о нем говорится и в начале отрывка («дорога-то большая, прямая, светлая, хрустальная, и солнце в конце ее»), и в конце, где Солнцем назван, в полном соответствии с церковным литургическим восприятием, сам Спаситель [2; Т. 14, 326–327] и тем самым обозначена природа этого света, отражающегося на сияющем лице представшего Алеше старца Зосимы.
Как и в пушкинской художественной картине мира, у Достоевского подчас чувствование фа- ворского света, в котором открывает себя преображенное земное бытие, передается через восприятие и переживание, условно говоря, определенных состояний внешнего мира, возводящих к духовной первопричине. Если у Пушкина это связано с образом белого на горе и всем примыкающим к нему смысловым рядом, то в произведениях Достоевского в первую очередь обращают на себя внимание в данном контексте картины с косыми лучами заходящего солнца, возникающие, как правило, в наиболее значимые и переломные моменты жизни героев. Таков в тех же «Братьях Карамазовых» запомнившийся Алеше на всю жизнь эпизод из его детства: «…он запомнил один вечер, летний, тихий, отворенное окно, косые лучи заходящего солнца (косые-то лучи и запомнились всего более), в комнате в углу образ, пред ним зажженную лампадку, а пред образом на коленях… мать свою… протягивающую его из объятий своих обеими руками к образу как бы под покров Богородице» [2; Т. 14, 18]. Также и в детстве старца Зосимы в запомнившийся на всю жизнь момент, когда его старший брат, умирая, прощался с ним и велел жить за себя, «солнце закатывалось и всю комнату осветило косым лучом» [2; Т. 14, 263].
Устами предчувствующего свою близкую смерть Зосимы Достоевский как бы комментирует эту художественную деталь, акцентируя передаваемое ею умонастроение и мироощущение: «…благословляю восход солнца ежедневный, и сердце мое по-прежнему поет ему, но уже более люблю закат его, длинные косые лучи его, а с ними тихие, кроткие, умиленные воспоминания, милые образы изо всей долгой и благословенной жизни – а надо всем-то правда Божия, умиляющая, примиряющая, всепрощающая!» [2; Т. 14, 265]. В этом ясном тихом свете «косых лучей» восприятие земного существования происходит не изнутри «видимо-текущего», как говорил Достоевский о фотографическом «реализме», ограничивающемся «кончиком своего носа», а переносится в область «правды Божией», в ту область, с высоты которой земной путь обозрим весь целиком, охватываемый его неземным смыслом, неземной конечной целью и итогом.
Список литературы «Ризы кожаны» и «брачные одежды»: о преображении человека у Достоевского
- Бочаров С. Г. Сюжеты русской литературы. М.: Языки русской культуры, 1999. 626 с.
- Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30 т. Л.: Наука, 1972-1990.
- Достоевский Ф. М. Дневник писателя. М.: Современник, 1989.
- Прп. Иустин (Попович). Достоевский о Европе и славянстве. СПб.: Издательский дом «Адмиралтейство», 1998.
- Неизданный Достоевский. Записные книжки и тетради 1860-1881 гг.//Литературное наследство. Т. 83. М.: Наука, 1971.
- Православный молитвослов. Правило ко святому причащению.