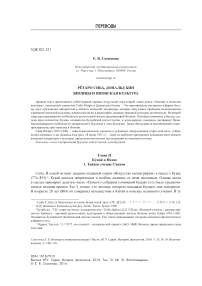Рётаро Сиба, Дональд Кин. Японцы и японская культура
Автор: Симонова Елена Владимировна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Переводы
Статья в выпуске: 10 т.15, 2016 года.
Бесплатный доступ
Данный текст представляет собой первый перевод на русский язык второй главы книги «Японцы и японская культура», написанной совместно Сиба Рётаро и Дональдом Кином 1. Это произведение построено в форме беседы двух признанных авторитетов в области японской литературы, которые обсуждают проблемы возникновения и развития японской культуры, вопросы религии и философии, влияние западной культуры на японскую. Во второй главе рассматриваются особенности религиозной жизни средневековой Японии. Основное внимание в беседе уделено двум личностям: Кукаю, основателю буддийской секты Сингон, и легендарному дзенскому наставнику Иккю. Рассматриваются особенности тантрического буддизма и дзен-буддизма. Также обсуждаются возникновение и распространение христианства в Японии. Сиба Рётаро (1923-1996) - известный японский писатель и публицист, автор романов «Гори, мой меч», «Облака над холмами» и др. Дональд Кин (род. 18 июня 1922 г.) - один из наиболее признанных специалистов в области японской литературы и культуры, автор многочисленных исследований по японской поэтике.
Тантрический буддизм, секта сингон, дзэн-буддизм
Короткий адрес: https://sciup.org/147219493
IDR: 147219493 | УДК: 821.521
Текст научной статьи Рётаро Сиба, Дональд Кин. Японцы и японская культура
Глава II
Кукай и Иккю 1. Тайное учение Сингон
Сиба. В одной из книг недавно изданной серии «Искусство каллиграфии» я писал о Кукае (774–835) 2. Кукай казался неприятным и вообще далеким от меня человеком. Однако когда я одолел примерно десятую часть «Полного собрания сочинений Кукая» (это было трудночитаемое издание времен Эдо 3), понял, что человек, которого называли Кукаем, мне интересен. В возрасте 20 лет (804) он совершил путешествие в Китай в поисках истинного учения. В ту пору он был всего лишь молодым монахом, бросившим учебу, которого включили в состав японской миссии. Фрагментарно тантрический буддизм уже существовал в Японии, и Кукай имел о нем смутное представление. Этого было достаточно, чтобы увлечься «тайным учением». Кукай отправился в Китай в поисках учения, отличавшегося от обычного, доступного каждому.
В Чанъани в то время уже были последователи тантрического буддизма, но, как мне кажется, он в некотором смысле не соответствовал характеру китайцев. Возможно, оттого, что был слишком идеалистичен… Ведь китайцы признают только то, что на земле выросло, по земле передвигается, то, что видно глазу, что можно съесть. На языке конфуцианства тантрический буддизм (и ему подобные учения) – это «безумие демонов». Поэтому он не прижился в Китае, и патриархи были удручены. Так Кукай стал восприемником учения. Обладая этими знаниями, он вернулся в Японию. Однако это учение по сути своей было брахманизмом, а не буддизмом. Ведь основателем этого учения является не исторический принц Шакьямуни, а «Солнечный» Будда Нёрай, Вселенский Будда Махавайрочана, являющийся телом Дхармы.
Поэтому я считаю тантрический буддизм учением, имеющим чисто индийские корни, а брахманизм это или индуизм, думаю, в данном случае не имеет значения. «Тайное учение» не было подобно кристаллу извлечено из индийской почвы, тантрический буддизм вошел в Чанъань подобно потоку воды и независимо от глубины или правильности понимания его китайскими монахами поддерживался на протяжении нескольких поколений. Вот с этим обретенным учением Кукай вернулся в Японию.
Однако я полагаю, что учение Сингон 4, которое создал Кукай, не является тем учением, которое существовало в Китае. Хотя основа у него та же, Кукай сумел создать новое религиозное направление, чистое и прозрачное, как горный хрусталь. Учение Сингон, практиковавшееся в монастыре на горе Коя 5 и храме Тодзи, было совершенным в своем роде. Кукай стремился к системе, в которой не было бы логических изъянов и изменение хотя бы одного элемента неизбежно влекло за собой разрушение всей системы. Поэтому доктрина Сингон впоследствии не была развита учениками Кобо Дайси, – Кукай создал безупречное учение, не нуждавшееся в развитии… В Индии была потребность в таком учении, как брахманизм, поэтому он утвердился на индийской почве, но когда его переносили в совершенно иные условия, он не мог быть воспринят в том же самом, «неочищенном» виде. Кукай извлек из этого индийского брахманизма чистый кристалл своего учения, подобно тому как из лекарств китайской медицины получают западные лекарственные препараты. Может быть, поэтому тантрический буддизм так «прижился» в Японии. Правда, распространялся он несколько необычным образом. Необразованные отшельники с горы Коя или паломники, путь которых пролегал через Коя, добирались в своих странствиях до самых отдаленных мест и прославляли имя Кукая – так распространилось учение. Но едва ли они могли передать истинную суть учения…
Кин . Учение Сингон имело еще один путь распространения – искусство. Это прежде всего мандалы «Мира Алмаза» и «Мира Чрева» (мандала «Двух миров»), фигуры великих ви-дья-радж Фудо-мёо, Годзандзэ-мёо, Конгояся-мёо 6…
Сиба . Да, они весьма впечатляют.
Кин. По моему мнению, мандалы играют ведущую роль в учении. В этом состоит принципиальное различие хинаяны и махаяны. Лет десять назад я ездил на Цейлон, посетил буддийский храм, расположенный в очень известном месте паломничества Анурадхапуре 7. Это деревянное сооружение, некоторые фрагменты которого сохранились с древности. Все деревянные опоры – это просто столбы из дерева без каких-либо украшений. Ничто в том месте – куда ни кинь взгляд – не напоминает об искусстве. Правда, я встретил одно необычное сооружение, украшенное каменной резьбой в виде цветов, – это был туалет. Таково отношение хинаяны к искусству. Когда Кукай встретился с патриархом Хуэй Го 8, вместе со знанием он получил также ритуальные предметы, изготовленные местными тантристами, мандалы, предметы искусства, и все это привез в Японию. Полагаю, это было уловкой для того, чтобы простые люди могли воспринять буддизм. Так буддийское искусство получило чрезвычайно широкое распространение и вскоре достигло высот настоящего искусства. Очень известна каллиграфия Кукая; в любом, даже самом маленьком храме, принадлежащем секте Сингон, можно и сейчас увидеть его работы. В других школах буддизма это и представить невозможно.
Сиба . В секте Сингон гораздо чаще, чем тексты, использовались большие и малые ритуальные предметы. Изображение Будды как большого ритуального предмета, разнообразные малые ритуальные предметы, такие как специальные одинарные, трехпалые или пятипалые жезлы для изгнания плотских страстей, – все это служило познанию законов Вселенной, единения с Космосом. Другими словами, «тайное учение» – способ единения с «дыханием» Космоса. Обретя это единение, можно даже вызвать дождь, войдя в созвучие с ним. Из-за невозможности выразить эту систему взглядов словами, прибегали к помощи изображений фантастических существ пантеона «алмазной колесницы» или магических заклинаний ( дхарани ).
Кин . Тантрический буддизм секты Сингон интересен мне больше всех среди разных направлений японского буддизма. Над горой Коя не раз гремели громы и, конечно, от древнего облика мало что осталось, но мне кажется, что именно там очень силен интернациональный дух.
Сиба . Это очень интересно. Мне никогда не приходило в голову, что Коя – место паломничества людей со всего света.
Кин . Конечно, я очень люблю многие чисто японские вещи, но думаю, что религия непременно должна быть межнациональной. В этом смысле гора Коя является безусловным достоянием всего мира.
Сиба . В атмосфере Коя есть ощущения какого-то простора, широты.
Кин . Очевидно, что Япония завезла буддизм с материка – во всех книгах по буддизму об этом написано. Вы нигде не встретите утверждение, что буддизм – это религия, которая родилась в Японии. Однако японцы сделали буддизм своим в той мере, в какой они могли осмыслить его. Самые яркие примеры этого можно найти в школах эпохи Камакура (1185–1333) – учении о Чистой земле Синрана9 или деятельности Нитирэна10.
Сиба . Я думаю, что идеи Синрана и Нитирэна были довольно далеки от буддизма исторического Гаутамы Будды.
Кин. Нельзя забывать о том, что буддизм изначально являлся чрезвычайно интернациональной религией. Буддизм был религией Индии, юго-восточной Азии, Китая, Монголии. Четырнадцать лет назад я написал книгу о Японии. В ней среди прочего было следующее: «Человеку, имеющему некоторое представление о Юго-Восточной Азии, буддизм Японии не представляется чем-то выдающимся. По сравнению со странами Юго-Восточной Азии буддизм в Японии не слишком заметен». В прошлом году часть той моей книги в оригинальном варианте вошла в учебник английского языка, изданного в Японии. Профессор одного из университетов снабдил этот текст следующими комментариями: «Я это понимаю так: буддизм сокрыт в самых глубинах нашей (японцев) души, поэтому иностранцам не дано его прозреть». Мне это высказывание показалось крайне неприятным и даже невежливым. Почему мне не дано понять буддизм?
Сиба . У меня был опыт совсем иного рода. Я очень редко выступаю с лекциями, но когда меня пригласили прочесть лекцию в городе Нара, не мог отказаться. Тогда я сказал, что японцы в основе своей не обладают чувствительностью. Например, утверждение «Кин иностранец, поэтому он не поймет» иллюстрирует это. Вы справедливо отметили, что Юго-Восточная Азия сформировалась в том виде, в каком мы ее знаем, во многом благодаря буддизму. Там буддизм определяет все – от образа жизни до малейших телодвижений. Это и есть буддизм. Учение Будды пришло в Японию, там были возведены великолепные строения, которые стали творениями подлинного искусства. Я даже думаю, что буддизм является скорее категорией прекрасного, а не религией или философской системой. В конце концов, я договорился до того, что с языка сорвалось: «Буддизм – это своего рода интеллигентская забава». В этот момент я случайно заметил монахиню, единственную в аудитории. Это была серьезная женщина, по всей видимости, ревностно исполняющая все буддийские заветы. Продолжение разговора в таком ключе стало невозможным. Это было бы все равно что сказать: «Твое существование не имеет смысла»….
Кин . Храм Тодзи 11 произвел на меня огромное впечатление. Когда я побывал там лет десять назад, главный зал еще не был открыт для посещения, и вот недавно я впервые смог войти в Золотой павильон и увидеть потрясающие изображения будд и бодхисаттв.
Вначале я думал совершенно так же, как господин Сиба. Когда я начал изучать деятельность Кобо Дайси и Дэнкё Дайси (Сайтё) 12, личность Кукая казалась мне довольно отталкивающей. Мне кажется, Сайтё не был таким уж большим ученым, однако человеком был исключительным. Кукай обладал безусловно блестящим умом, но как человек не вызывал восхищения.
Сиба . Да, в его характере много сарказма.
Кин . Абсолютно верно. Но сейчас я думаю, что в наши дни нет подобного ему гения… Сиба . Согласен. Сайтё – исключительно талантливый человек, но Кукай – гений.
Кин . И даже при таком лишенном свободы способе выражения мыслей, который называется …как? Бэмбун? Року, си…
Сиба . Сирокубэнрэйтай 13.
Кин . Даже используя этот стиль, Кукай смог ясно выразить свои идеи – это говорит о масштабе его гения.
Сиба . Вы упомянули о том, что во многих храмах в Японии можно увидеть работы Кукая. Мне тоже кажется это удивительным. Когда Кукай воспринял знание от Хуэй Го в Чанъани, он смог привезти в Японию все тайны священного писания, но, так как изваяния Будды нельзя было перемещать, он, вероятно, получил нечто вроде схематического изображения Будды и ритуальных предметов. Вернувшись в Японию, Кукай собрал мастеров по отливке металла, искусных резчиков, мастеров разных ремесел и сказал им: ты делай как на этой картине, а ты – как здесь; возможно, все это впоследствии стало тем, что мы называем произведениями Кобо Дайси?
2. Обаяние Иккю
Кин . Есть еще один человек, личность которого меня чрезвычайно привлекает. Это Иккю Содзюн (1394–1481) 14. Я не изучал дзен, да и творчеством Иккю не особенно интересовался, просто однажды увидел его портрет. Он поразил меня своей необыкновенной выразительностью и индивидуальностью. В отличие от большинства изображений дзенских наставников, отличающихся какой-то суровостью, портрет Иккю яркий, живой, в нем проступает мощная личность живого человека. Увидев этот портрет, я захотел узнать, что за человек был Иккю, – такова была отправная точка. Конечно, мне и раньше приходилось слышать рассказы о находчивости Иккю, похожие на детские сказки, но я совсем ничего не знал о его китайских стихах, да и о жизни тоже. Но чем больше я углублялся в чтение «Собрания стихотворений [монаха] Безумное Облако» 15, тем больше убеждался, что это был поистине необыкновенный человек. Мне даже стало казаться, что я его понял: расстояние между нами исчезло, его страдания стали восприниматься как мои собственные…
Впервые я говорил об этом переживании на публичной лекции в Америке. Среди слушателей было много молодых людей, которые казались глубоко взволнованными. Я не думаю, что моя лекция была очень хороша, но в терзаниях Иккю есть какая-то универсальность, сила, затрагивающая и современных людей. Он, яростно ненавидевший и поносивший лицемеров, вел вольную жизнь, в каком-то смысле даже безнравственную, но его гнев, его негодование я чувствую, как свою боль.
Пожалуй, я не смог бы рассуждать о том, какими были Риндзай 16 или Догэн 17, но об Иккю могу сказать, что это был действительно выдающийся человек в мировой истории.
Сиба . Мне нравятся стихи Иккю, в которых перед нами предстает слепая певица Син, возлюбленная «Безумного Облака» в его преклонные годы.
盲森夜々伴吟身
被底鴛鴦私語新
С возлюбленной Син
Мы словно уточки-мандаринки, вышитые на простынях, неразлучны.
Только шепот вновь нарушит тишину ночи.
一代風流之美人
艶歌清宴曲尤新
新吟腸断花顔靨
天宝海棠森樹春
Непревзойденная красавица, песни твои вновь услаждают мой слух.
Я вновь покорен ямочками на твоих щеках.
Даже великие китайские красавицы прошлого не сравнятся с твоей красотой,
Подобной нежным краскам весенних гор 18.
Ту откровенность и даже дерзость, с которой Иккю говорит о своих чувствах, я считаю настоящим мужеством. Сострадание к слепой певице сродни жалости к живому существу, ка- ким был и Иккю. В его стихах сквозят сочувствие и нежная забота о незрячей возлюбленной, которая, как и он сам, была частью природы.
Кин . В стихах Иккю ощущается какая-то суровость. Возможно, в сравнении с поэзией дзенских монастырей годзан бунгаку они кажутся неумелыми. Если читать исследования по литературе Пяти монастырей 19, Иккю посвящено не более двух-трех страниц, да и то обзорно. А меня, например, не впечатляет поэзия Гидо Дзэндзи 20. Бесспорно, его произведения красивы, но вот ко мне не имеют никакого отношения. И в то же время я был поражен, насколько китайские стихи канси , написанные Иккю, понятны и близки мне. Например, среди стихов, посвященных его возлюбленной Син, есть такие:
森也深恩若忘却
無量億劫畜生身
Если когда-нибудь позабуду
Твои нежность и сострадание,
Пускай я буду вечно влачить жалкое существование
Подобно зверю 21.
Сиба . Да, я знаю это стихотворение.
Кин . Невозможно представить, чтобы такие строки были написаны кем-нибудь другим из дзенских наставников.
В Америке отношение к дзен-буддизму было в целом настороженным. Думаю, это уже в прошлом, но когда-то дзен считали сомнительным, не вызывающим доверия учением. Пришли времена, когда люди перестали верить в Бога, так что религия без Бога стала очень популярной. Дзен стал таким учением, поднявшим целую волну последователей. Интуитивный буддизм, в котором нет Бога, стал настоящим благом для разуверившихся в традиционном христианстве и не принявших, например, эзотерический буддизм школы Сингон. Но имеет ли это отношение к истинному Дзен?
Сиба . В Японии сосуществуют множество религий, но мне кажется, дзен наиболее соответствует японскому характеру, неважно, истинный это дзен или нет. Мне чрезвычайно нравится в Японии интуитивность и отсутствие избыточной схоластичности. Порой я представляю мужественных воинов эпохи сёгуната Токугава22, то, как они умирали, не произнося слова молитвы. Возможно, воины того времени верили в загробную жизнь, а может быть, реинкарнацию, но думаю, они ни о чем таком не размышляли в последние мгновения. Дзен – это религия, которая может жить в душах мужественных людей. Неизвестно, кто первый произнес слово «бусидо», да и значение слова «воин», и представление о духе самурая отличаются в разные эпохи, но, уверен, во времена Токугава немало было тех, кто понимал подлинную суть дзен.
3. Христиане
Сиба . Может быть, оттого, что в Японии сосуществовали разные религии, или же из-за особенностей менталитета японцев, но когда португальцы принесли с собой идеи христианства (католичества) в 1549 году, японцы не выказали особого удивления. Даже монахи с горы Хиэй, кажется, думали, что появилось еще одно новое течение буддизма. Одно из направлений, подобное сектам Тэндай или Сингон.
Кин . Согласен. Например, в самом начале своей деятельности Франциск Ксавье (1506– 1552) 23 испытывал немалые затруднения в переводе на японский язык слова «Бог» и в результате перевел его как «Великое Солнце». И когда он говорил: «Мы, португальцы, молимся Великому Солнцу», японцы удивлялись: «Как? И иностранцы тоже?» (оба смеются). Вероятно, Ксавье ожидал встретить большее сопротивление христианству: «Как странно… должно быть большее противодействие». Немного обжившись, Ксавье понял, что «Великое Солнце» было неудачным переводом, и решил использовать слово португальского языка «деус». Я не знаток португальского языка, но знаю, что португальское «деус» произносится как «дайусо» 24. Португальцы говорили: «Мы верим в “большую ложь”, и японцы смеялись (оба смеются).
Еще одно обстоятельство заслуживает внимания. Интересно, что именно португальцы первыми из иностранцев попали в Японию. Если бы на их месте были голландцы или норвежцы, японцы, возможно, были более озадачены и заинтригованы. Даже в современной Португалии много людей, похожих на японцев. Они черноволосы, да и лицом не так уж отличаются от людей Востока. Среди самих японцев также есть немало типов внешности. Глядя на португальцев того времени, современники находили, вероятно, что внешность их действительно несколько отличается от японской, но все же не считали их расой, кардинально отличной от своей.
Сиба . Да, и в частности Ксавье принадлежал к народности басков, живущих в Пиренеях, которые внешне очень похожи на японцев. Поэтому, возможно, когда японцы смотрели на Ксавье, они думали, что это просто необычный представитель их народа.
Кин . Я довольно много читал на английском языке писем, написанных в то время португальскими и испанскими миссионерами, и ни один из них не писал, что японцы являются расой, отличной от них. Напротив, писали даже, например, что женщины Японии более белокожие, чем европейцы. В сущности, в их восприятии японцы ничем не отличались от европейцев. В гораздо более поздние времена, уже с наступлением XIX века, получили развитие националистические идеи. Вначале же, когда в Японии появились португальцы, они считали, что Япония мало чем отличается от Европы, разве что более чистая и опрятная. Шедевром я считаю запись, в которой отмечено, что самым большим затруднением португальцев явилось то, что они не знают, куда сплевывать. Видимо, они спокойно сплевывали табачную жвачку прямо у себя в домах в Португалии, но в японских домах было очень уж чисто, и в них португальцы, судя по всему, чувствовали себя неловко. В таких ситуациях они, вероятно, находили отличие Японии от своей страны, но при этом не считали японцев более отсталым народом, чем европейцы. «У японцев есть только один очень большой недостаток», – писали миссионеры, – «это то, что они не веруют в Христа. Если бы у японцев не было этого недостатка, Япония была бы лучше, чем любая европейская страна», – так они говорили. Ксавье писал: «Для меня народ, который ближе мне, чем даже соотечественники-португальцы, – это японцы». Подобные высказывания дают основание считать, что общение между японцами и португальцами было успешным.
В 1587 году Тоётоми Хидэёси в Киото на территории храма Китано Тэммангу устроил грандиозную чайную церемонию, которая вошла в историю под названием «Великое чаепитие в Китано». В афишах, сообщающих об этом событии, говорилось, в частности, следующее: «Приглашаются все жители Японии, само собой разумеется, но также жители Китая и все любители. Пусть каждый оденется, как захочет». В сущности, Хидэёси этим сказал: «Иностранцы, приходите и вы!»
Я замечаю, что современные японцы при появлении иностранцев чувствуют некоторое напряжение. Например, они думают, что в обществе иностранца не стоит делать какие-то вещи или вести какие-то разговоры, чтобы не выглядеть странно… Я полагаю, у японцев того времени не было подобных мыслей.
Сиба . Да, совсем не было. Более того, иностранцам был оказан очень радушный прием. Католицизм в Японии распространился с невероятной быстротой, количество верующих достигло 500 тысяч человек. Даже учитывая распространенность христианства в то время, 500 тысяч верующих – это очень много.
Причина состоит, возможно, в некотором пресыщении японским буддизмом. К тому же католицизм рассматривали как одно из его направлений. Важно также и то, что, как Вы уже говорили, у японцев того времени не было склонности относиться с подозрением к иностранцам или тому, что с ними связано.
Вспомним, например, знаменитую Грацию Хосокава (1563–1600) 25. Грация и ее муж, Тада-оки Хосокава (1563–1645) 26 были дружной супружеской парой. Кроме того, что оба обладали взыскательным вкусом, они были наделены горячим темпераментом, что вообще-то является характерным для той эпохи и позволяет назвать их типичными «людьми средневековья». Отношения в этой супружеской паре были близкими, но это была не обычная дружная семья. Это были супруги, которые вели философские беседы. Грация в четырнадцать-пятнадцать лет, увлекшись дзен-буддизмом, посещала дзенские монастыри, а в юности читала труды по конфуцианству. Тадаоки же считал своим долгом проявлять заботу о Грации (между прочим, она славилась своей красотой). Он расспрашивал у сведущих людей об устройстве Вселенной, тайнах человеческой жизни и других философских вещах, а затем рассказывал об этом Грации. Ей очень нравилось слушать эти занимательные рассказы. Однажды Тадаоки рассказали о том, что у «южных варваров» есть народ под названием готы. Так Тама Хосокава стала Грацией. Наставник Тадаоки не обратился в христианство, но его ученица Грация в конце концов стала католичкой. Она была дочерью Акэти Мицухидэ, поэтому жизнь ее была полна тревог, среди которых самым драматическим испытанием было сражение при Сэкигахаре. После окончания военных действий 27 Тадаоки вернулся в Осаку. В Осаке находилось его поместье и там же неподалеку католическая церковь, которую на протяжении всей своей жизни опекала Грация. И вот Тадаоки пожертвовал настоятелю этой церкви, с которой Грация была глубоко связана и которую тайно посещала, несмотря на запрет мужа, денежную сумму. Это были огромные деньги, но настоятель немедленно раздал их несчастным сиротам и нищим. На следующий день не осталось ни одного мона 28 из той суммы, которая была вручена настоятелю накануне. Тадаоки, узнав об этом, был поражен. Японское духовенство другое, оно только присваивает, – так говорил глубоко взволнованный Тадаоки. Однако он был политическим деятелем, и в то время христианство уже было под запретом, поэтому сам Тадаоки не мог принять католичество. Но можно полагать, что он всю жизнь хотел стать христианином. Конечно, это стремление связано с религиозной деятельностью его жены, но, думается, дело не только в этом. На Тадаоки произвел сильное впечатление эпизод (это было уже после смерти Грации), когда настоятель в мгновение ока раздал деньги, пожертвованные храму, всем нуждающимся. Безусловно, он был потрясен этим.
Можно сказать, что вплоть до конца эпохи Воюющих государств 29 или же начала правления Токугава, когда христианство было запрещено, японцы по отношению к «южным варварам» проявляли себя как когда-то франки, принявшие христианство.
Кин . В связи с написанием «Истории японской литературы», которая находится в печати, в последнее время я много читал о Мацунага Тэйтоку (1571–1653) 30. Думаю, немного было поэтов, писавших хайку, которые были бы столь консервативны и лишены свободы в творчестве, как Мацунага Тэйтоку. Однако когда читаешь его произведения, создается впечатление, что он свободно посещал церкви «южных варваров» и общался со многими христианами. И в письмах он писал, например, о том, что «недавно прислали из Нагасаки бочонок иностранного виноградного вина, не распить ли нам его вместе?» Это была атмосфера, которую невозможно даже представить в эпоху Токугава, не правда ли?
Материал поступил в редколлегию 29.06.2016
Elena V. Simonova
Novosibirsk State University
1 Pirogova, Novosibirsk 630090, RussianFederation
THE PEOPLE AND CULTURE OF JAPANCONVERSATIONS BETWEEN DONALD KEENE AND SHIBA RYOTARO