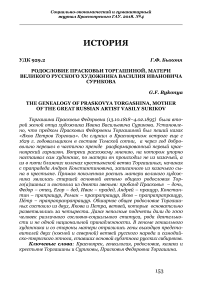Родословие Прасковьи Торгашиной, матери великого русского художника Василия Ивановича Сурикова
Автор: Быконя Г.Ф.
Журнал: Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ @social-kgau
Рубрика: История
Статья в выпуске: 4 (10), 2018 года.
Бесплатный доступ
Торгашина Прасковья Федоровна (13.10.1818-4.02.1895) была вто- рой женой отца художника Ивана Васильевича Сурикова. Установле- но, что предком Прасковьи Федоровны Торгашиной был пеший казак«Яков Петров Торгоша». Он служил в Красноярском остроге еще с 1629 г. годовальщиком в составе Томской сотни, а через год добро- вольно перешел в частично прежде расформированный первый крас- ноярский гарнизон. Вопреки расхожему мнению, на котором упорно настаивал сам художник, по матери он происходил не из казачьей, а из в пяти ближних коленах крестьянской ветви Торгашиных, начиная с прапрадеда Андрея Константиновича, записанного из казачьего сы- на в крестьяне. Прямая поколенная роспись матери великого худож- ника являлась старшей основной ветвью общего родословия Тор- го(а)шиных и состояла из девяти звеньев: пробанд Прасковья - дочь, Федор - отец, Егор - дед, Иван - прадед, Андрей - пращур, Констан- тин - прапращур, Роман - прапрапращур, Яков - прапрапрапращур, Пётр - прапрапрапрапращур. Обширное общее родословие Торгаши- ных состояло из двух, Якова и Петра, ветвей, которые основательно разветвлялись за четыреста. Даже неполные подсчеты дали до 1000 человек различного сословно-социального статуса, рода деятельно- сти и не одной национальной принадлежности. В геноме гениального художника и со стороны матери отразились гены выходцев предста- вителей двух (южной и северной) ветвей русского народа и самодий- ско-тюркского этноса, ставших основой субэтноса русских сибиряков.
Красноярск, генеалогия, родословие, казаки и крестьяне торгашины и суриковы, прасковья федоровна торгашина
Короткий адрес: https://sciup.org/140244027
IDR: 140244027 | УДК: 929.2
Текст научной статьи Родословие Прасковьи Торгашиной, матери великого русского художника Василия Ивановича Сурикова
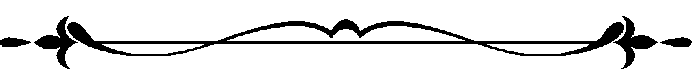
Гендерная история – одно из новых направлений в отечественной исторической науке. Роль женщин, которые объективно и потенциально, а зачастую и реально, интеллектуальнее мужчин, трудно переоценить в истории человечества. (Понятно, что его, некоторая самолюбивая, мужская часть из-за традиционных амбиций до сих пор не желает признавать эту аксиому.) Не случайно у всех народов и языков с незапамятных времен существует особый культ матери. В частности, как человек мира, В.И. Суриков, подростком потерявший отца, это особенно остро чувствовал и осознавал. Так, современники нашего великого земляка свидетельствовали: «Вспоминая, кому он обязан своим искусством, Суриков более всего отдает дань признательности сибирской природе и матери… Она тонко разбиралась в полутонах и обладала чувством колорита, производившим на художника, по его признанию, неотразимое впечатление. Еще в 90-х годах, вопреки своему обычаю, он слушался ее советов при создании картины «Городок» («Взятие снежного городка». – Г.Б.), она помогала ему иногда находить и создавать костюмы для героев его «Ермака». Неслучайность, что в живописи Сурикова главную роль играет колорит – женственное начало искусства [1, с.198].
Специальных работ по роду Прасковьи Торгашиной нет. Только в публикациях о её знаменитом сыне приводятся беглые справки о ней и её близких [2]. Крупный сибирский ученый – библиограф Степан Николаевич Мамеев (27.12.1859 – 1939) в 30-е годы ХХ в., составляя по заказу Третьяковской галереи родословие Василия Ивановича Сурикова, привел неточные сведения о его матери. Впоследствии уроженец Енисейской губернии С.Н. Мамеев продолжил работу. Он набрал, в основном из церковных источников ХVIII – конца XIX в. (исповедных росписей, метрических, а также обывательских книг), огромный массив имен по Суриковым и Торгашиным, но не успел выполнить их систематизацию. Трудночитаемые черновые, даже иногда карандашом и с ошибками выписки нашли свое место в местном архиве [3, 4].
Мне уже доводилось разбирать вклад и недочеты по данной теме этого настоящего скромного подвижника науки и патриота своей малой Родины [5, с. 256–261]. Лишь отмечу, что отсутствие несохранившихся на местах материалов по ХVII – середине ХVIII в. обусловило белые пятна и ошибки, особенно в первых коленах родословий родителей художника.
Упоминания о его матери и близких художника приводятся и в публикациях воспоминаний и писем художника, его друзей [6]. Ценным источником являются опубликованные С.В. Бахрушиным подворная перепись Красноярска с уездом 1671 г. [7, с. 218–220] и иждивением И.А. Си-ротинина, первая подушная перепись 1720 г. [8].
Новые привлеченные материалы (окладные денежные и хлебные книги красноярских казаков 1630, 1637, 1694, 1700 и 1701 гг.; ландрат-ская перепись 1710/13 г. подушные переписи населения Красноярска с уездом 1744, 1762 гг.; делопроизводство Красноярской воеводской канцелярии, Енисейской губернской казенной палаты и другие архивные материалы) [9] позволили выявить всю поколенную иерархию Торга-шиных.
Удалось установить, что на территории Красноярья на 1629/30 г. по окладным денежным и хлебным книгам казаков числилось два Торга-шина. В Енисейский острог перевели из Березовского острога «Ивашку Григорьева устюжанина Торгошина» [10, л.49]. В Красноярский же острог в том же году прибыл как годовальщик из Томской казачьей сотни «Якунко Петров Торгоша». Его появление связано с обстоятельствами начальной истории Красноярского острога.
Андрей Дубенский к 1628 г. для основания острога не смог набрать в сибирских уездах добровольцев «указное число» в 400 служилых людей. Эту сотню с августа 1629 г. по конец 1630 г. в Тобольске, Томске и Енисейске пытался набрать с ведения новоучрежденного разрядного города
Томска энергичный Осип Федорович Акинфов, официально назначенный Москвой первым красноярским воеводой. Поэтому из Тобольска на 1630 г. было отправлено хлебных запасов в Красноярск именно на это количество людей.
Между тем судьба нового острога повисла на волоске. Пока О.Ф. Акинфов с января 1629 г. месяцами добирался из столицы и заботился о живучести порученного ему острога, злостный навет недальновидного енисейского воеводы Аргамакова (в середине 1629 г.) достиг до Москвы, которая усомнилась в необходимости закрепляться на Среднем Енисее. Вдогонку О.Ф Акинфову первого августа 1630 г. был послан указ на месте решить судьбу острога. По прибытии красноярский воевода убедился, что прежде старший по отношению к Красному острогу енисейский воевода уже наполовину уменьшил красноярский гарнизон. Посланный им тобольский письменный голова Василий Кокарев зимой 1630 г. забрал в Енисейск 150 казаков-добровольцев. Воевода быстренько разослал их, кроме семейных, по отдаленным острожкам [11]. О.Ф. Акинфову, при активной поддержке заинтересованного в усилении своей юго-восточной границы томского разрядного воеводы, пришлось восстанавливать численность первого красноярского гарнизона. Ему удалось вернуть только 60 прежних казаков. Остальных, несмотря на протесты Енисейска, он пытался брать даже среди находившихся в кабале у купцов гулящих и промысловых людей. Кроме того, воевода О.Ф. Акинфов получил в годовую службу, образованную из добровольцев тобольского гарнизона, особую «томскую сотню», сформированную с придачей Томску статуса разрядного города. Ведь с уходом в 1617 году с Андреем Дубенским 90 казаков-добровольцев в Томске оказалась острая нехватка служилых людей. До этого сотня, в которой состояли среди «литвы и черкас» Андрей Сирота и стародубский сын боярский Дементий Злобин, несла годовую службу в беспокойном Притомье, числясь особым подразделением в Тобольске. Их служба не ограничилась одним годом. Это была обычная практика, когда казаки-годовальщики нередко годами жили вне своих официальных мест приписки и проживания. Например, сургутские казаки Темира Иванова, по данным Н.Н. Оглоблина, долго ждали смены, надеясь, что «государь их за их службы и за терпение пожалует своим великим жалованием и перемену на их место к новому году пошлёт и отпустит их» [12, с. 24-32].
Через год часть томских годовальщиков добровольно перешла к красноярскому воеводе О.Ф. Акинфову, а в 1634 г. при воеводе Карамышеве их поверстали в образованную конную сотню. В красноярской окладной книге за 1637 год в конной сотне в десятке атамана Дементия Злобина, среди получавших оклад в 7,25 руб., 7 чети с осьминой муки (30 пудов), по чети крупы и толокна (по 4 пуда), две чети овса показан «Якунко Петров Торгоша» рядом с «Ондрюшкой Михайловым Сиротиной» [10, л.120].
Таким образом, прародитель рода Торгашиных входил в первый восстановленный красноярский гарнизон.
«Яков Петров Торго(а)шин» успешно нес разнообразные службы. К 1663 году он стал десятником конных казаков, обзавелся семьей, но получал прежние денежный и хлебный оклады в виде 7,25 руб., 6 четей с осьминой ржаной муки, четь круп, по два пуда овса и соли [13, л. 340 об.]. Как семейному, оклад ему не прибавили, поскольку он завел небольшую пашню. Судя по двум крепостям на землю от 1646/47 и 1659/60 гг., она появилась у Якова Петровича еще в сороковые годы, а значит, появление подгородной заимки – однодворки на правой стороне Енисея у речки Киковки можно датировать 1645 годом [11, с. 143–144].
О связях же его с енисейским Иваном Григорьевичем Торгашиным данные не обнаружены. Вероятно, Иван основал дер. Торгашинскую, был женат и умер до 1646 г. В этом году 10 июля у вдовы «Анисьи, про-звише Торгашиха» вор «Васька Антонов Золотая ручка» украл ружье и одежду [14].
По подворной же переписи 1671 года Яков уже не глава семьи, а получивший должность отца «десятник Роман Яковлев сын Торгошин» (? – до 1722). Он жил в деревне одним двором с отцом и неверстанным в службу племянником отца «Ивашкой Петровым Торгошиным». Откуда взялся Петр с сыном, не ясно. Вероятно, он мог после отставки прибыть позже и поселиться у Якова. Возможно, при осаде острога в 1667 г., когда погибли многие красноярцы, осиротевший подросток Иван оказался на попечении дяди, а потом и двоюродного брата Романа.
Другие сыновья Якова – холостые конные казаки «Ермачко» – Ермолай и Яков (1650 – ), как и замужняя дочь с мужем, тоже жили вместе с отцом и братьями одним двором. Там же показаны «дворовый Якупка Васильев и новокрещен(ый ясачный) Ромашка Павлов и человек их зятя Фомы Павлова новокрещен же Ивашка Григорьев» [7, с. 143, 218–220].
Во время осады Красноярского острога в 1679 г. «…деревню Торга-шину киргизский князец Яронячко со своими улусными людьми сожгли, людей побили и частью в полон увели». Уцелевшим, в том числе Торгашиным, пришлось отстраиваться заново [15, л.3-3об.]. В 1694 году у отставного Якова Петровича трое сыновей – Роман, Ермолай и Яков – по-прежнему продолжали служить рядовыми конными казаками. С ним же был другой племянник Якова – Андрей, сын Петра, который показан пешим казаком. Вероятно, после Тубинского похода 1692 г. он перешел из Енисейска к родне. Все они получали только денежный оклад по 3 руб.25 коп., поскольку имели значительное хозяйство [16, л. 42 об., 43 об., 45 об., 53].
Первые Торгашины и взрослые дети Якова и Петра, вошедшие и не попавшие в штат, были заметны, особенно с конца XVII в., в утверждении русских на берегах Среднего Енисея. Так, пеший казак Андрей уча- ствовал в Тубинском походе против разбойного киргизского князя Шан-ды в 1692 г. [17, л. 17].
В большом походе 1701 г., когда были разбиты основные силы киргизских князей, участвовали добровольцами –«охочими людьми Ивашка (Петров сын. – Г.Б.), …знаменщик Ермачко, … казачий сын Мишка и… конный казак Андрюшка Торгашины». Десятник же Роман в поход ходил даже со «своим человеком» – холопом, которого убили [17, л.92, 93 об., 95 об., 100 об, 107, 121]. После этого Роман Яковлевич с 19 августа по конец сентября 1701 г. даже возглавлял посольство из 4 человек для переговоров с киргизскими князьями и джунгарским наместником в киргизских улусах Абу-Зайсаном. От красноярского воеводы П.С. Мусина-Пушкина «он имел полномочия заключить мир с условием, чтобы киргизские князья приняли «шерть» – присягу служить …великому государю и прямить во всею правду по своей вере, до своего живота, со всем родом своим, да они ж бы дали шерть на своих детей, на внучат и на правнучат своих и родственников» [Цит. по 18, с. 44–47]. В 1703 году ему поручали выяснить масштабы увода с юга края местного населения джунгарами – черными калмыками».
Торгашины участвовали и в походах 1704–1705 гг. и строительстве Абаканского острога в 1707 г., этого нового опорного пункта в Северном Присаянье. Красноярцы «Ивашко и Якунко Торгашины отмечены в числе 972 служилых людей Томска, Кузнецка. Енисейска и Красноярска. Среди «охочих из казачьих детей» был по-прежнему Мишка, Романа сын, а также пеший казак Ондрюшка Торгашины» [17, л. 25 об., 93]
Дружные Торгошины издавна отличались хозяйственностью и деловитостью. Роман Яковлевич с братьями имели в 1702 году самую большую в деревне пашню в 13 и 2/3 десятин в поле. При этом они для переработки продукции своего довольно крупного земледельческого хозяйства завели в 1682 году одну из девяти имеющихся в уезде мельниц. Интересно, что она показана при дер. «Торгоша» и была записана на «Якова Торгошу». Этим еще раз подтвердилось, что первоначально основатель рода имел, вероятно, прозвище «Торгоша» и первое название современной дер. Торгашинская было Торгоша [11, с. 218, 219, 143, 147].
Зажиточные казаки Торгашины ладили с властями, но из корпоративной солидарности могли участвовать вместе с Суриковых в первой красноярской «шатости». Так, Василий Торгашин был среди тех выборных, что в светлице воеводских хором 8 августа 1698 года вручал письменный отказ от воеводства Дурново и участвовал в его позорном изгнании из города [19, с. 43].
К подворной ландратской переписи 1710 года из 20 дворов растущей д. Торгаши у детей основателей было 2 двора. От семьи Романа отделился Иван Петрович, ставший сыном боярским, с сыновьями Федором и Ильей (1698 – ), всего в его семье с холопами было 16 чел. обоего пола, в том числе 7 муж. пола [20, л. 81 об.]. В отличие от Ивана женатый Ермо- 158
лай не вышел из общего хозяйства и «наставился избой своей» на обширном подворье родного брата Романа. Ею он «заставил в окошке свет» в соседней избе конного казака Федора Ковригина, отец которого перешел в д. Торгаши после разорения своей заимки в 1679 году.
Поземельный спор братьев Торгашиных с Ковригиными разбирал с 1711 года даже Сибирский приказ. В результате был подтвержден приоритет детей основателя: «велено от прежней дачи заимки Романа Тор-гашина отмежевать против наших государевых указов,... и что сверх указанного числа той заимки будет в остатке, то отдать Федору Ковригину» [15, л.3-4 об.].
Через 10 лет по первой подушной переписи и ее ревизии конные казаки Торгашины жили в своей деревне тремя дворами, но часть детей старожилов уже ушли на свободные земли, поскольку в ближней к Красноярску округе уже ощущалась нехватка пригодных угодий. Сын основателя - 70-летний отставной казак Яков Яковлевич Торгошин с двумя женатыми сыновьями Константином и Михаилом перешел в пя-тидворную дер. Сыдинскую в плодородной Сыдо-Ербинской котловине. У конного казака Константина 44 лет (род. 1676) были сыновья Федор 14 лет (1706 - ), двухлетний Иван и полугодовалый Родион, а у Михаила 25 лет (род. 1695 г.). показан в переписи годовалый сын Григорий. Все жили одним двором. При уходе Якову достался дворовый 17-летний Нестер [8, л. 51 об. двор. 396].
По Енисею, выше между Караульным острогом и дер. Потаповой, основал одну однодворку сын боярский Иван Петрович Торгашин сорока с лишним лет с сыном Федором и Ильей (полный состав семьи и возраст не определяются из-за дефекта нижней части переписного листа [8, л. 63 об. двор. 489].
Эти две побочные ветви Торгашиных обжились на новом месте и пустили корни. Так, в 1797 г., по материалам Минусинской земской избы, Торгашины проживали в четырех населенных пунктах, всего 21 душа обоего пола, в том числе д. Сыдинской - 5 душ, Белоярской - 13, Кабыц-кой - 2 и Абаканском остроге - 1 душа [21, с. 30-31].
Со временем у них завязались родственные отношения с жителями соседних селений. Так, 30 октября 1771 г. крестьянин Караульного острога Абаканского прихода взял в жены Евфимию Родионовну Торгашину [22].
В сплошь казачьей деревне Торгашинской осталось 19 дворов, из них три Торгашиных. У конного казака, 50-летнего Михаила Романовича (1679 - 17?), были два сына - 24-летний Иван (1696 - ?), 22-летний Михайло (1698 - ?), и внук Андрей трех лет.
Другой двор (№ 892) принадлежал их родному брату, 17-летнему «казачьему сыну Даниле Торгашину», о котором больше не нашлось сведений .
Во дворе под номером 891 у их дяди, конного же казака 35-летнего Константина Яковлевича Торгашина (1685 - 17?) был двухлетний сын Андрей (1718 - 17?). Он недолго числился в служилом сословии как «ка-зачьий сын». Все были неграмотны, поскольку за них подисались другие [8, л. 106].
Новая налоговая система, введенная Петром I в 1719-1724 гг., оказалась чреватой негативными для казачества последствиями. Была даже опасность их растворения в регулярных подразделениях и исчезновения как сословия. В Западной Европе с XVI в. шла революция в военном деле. Бурное развитие огнестрельного оружия привело к появлению регулярной профессиональной армии и флота, коренному изменению тактики и стратегии. Петр I, энергично создавая новую армию, справедливо считал стрельцов и казаков анахронизмом. В молодые годы стрельцов он боялся и ненавидел. На его глазах они подняли на пики родных братьев матери Натальи Кирилловны Нарышкиной. Казачество с его вольностями, волнениями в Астрахани и казачьим восстанием во главе с Кондратом Булавиным тоже плохо вписывалось в создаваемое им «регулярное государство».
Мало того, в Сибири из-за казаков процент неподатного населения оказался необычно большим - до 30 процентов, в то время как во всей России - лишь около одного процента. Это было недопустимо в условиях огромных расходов на длительную Северную войну 1700–1721 гг. и на другие реформы. Новая система налогообложения стала удобным средством исправления этого алогичного с точки зрения верховной власти положения. Единицей налогового обложения стал не двор, а душа мужского пола «от младенцев до сущих стариков». За убылые души должны были платить члены сельских городских общин «соопча раскладкой» до новой переписи, которая их исключала и вносила вновь родившихся. Неподатными оставались дворяне, военные, приказные и духовенство. Перепись населения 1718-1720 гг. и ее проверка-ревизия 1722- 1723 гг. стали основой не только налогообложения, но и свидетельством сословной принадлежности, так как впервые внесли в оклад холопов-дворовых, однодворцев из служилых «по прибору», гулящих людей и не вошедших в штат и отставных казаков.
Петр I, несмотря на нелюбовь к казачеству, все же понимал, что в условиях России только казаки, с малыми затратами на них, могли обеспечить минимум безопасности страны в приграничных территориях и решать задачи публичного и эксплуататорского порядка на ее окраинах. Однако их штаты сократили примерно на 30 процентов. В «Красноярском казачьем войске» из 849 осталось лишь 730 верстанных. Причем вначале местные сибирские власти, в том числе в Красноярске, переписали вместе с податными всех штатных и отставных рядовых казаков, включая командную верхушку. При этом они переусердствовали и даже с детей верстанных казаков стали взимать ежегодно по 70 копеек по- 160
душных и 40 копеек оброчных денег. Это вызвало массовый протест, и в 1728 году таких детей исключили из списков. Остальные заштатные под именем разночинцев и крестьян остались налогоплательщиками. Петр I отменил «московский и сибирский списки дворян и детей боярских», когда за отличие и рядовых казаков, и отставных офицеров регулярных частей, как и их детей, записывали в эти звания.
Правда, на штатной казачьей службе прежние почетные звания потомственных дворян и детей боярских сохранялись до конца века и передавались обычно oт отца к сыну. В Красноярске дворянами и детьми боярскими в XVIII в. служили отдельные члены 15–20 семей, в том числе Суриковы, Нашивошниковы, Торгашины, Елисеевы, Дардаевы, Терентьевы, Цыренщиковы, Замятнины, Иконниковы, Красиковы, Толщины, Жаровы, Юшковы, Таракановские. В 1722 году им принадлежало 17 дворов, в 1769 – 18, а в 1784 – 12. Некоторые, в том числе почти все Суриковы и Торгашины, утратили эти звания [23, гл. 4].
Казачий круг мучительно решал – кому остаться в службе. Критериями были личная пригодность по здоровью и возрасту, по происхождению, давности службы и представительности казачьих родов. В каждой староказачьей семье старались оставить хотя бы по одному в штате. Так, двое, Иван и Василий, из трех сыновей конного казака Василия Романовича, и сын его брата Константина Андрей при сокращении штатов в 1724–1728 гг. оказались сразу крестьянами. Возможно, это косвенно говорит о крестьянском происхождении их прадеда Якова Петровича и енисейского Ивана Григорьевича Торгашина.
Братья Романовичи с потомством надолго и прочно осели в своей родовой деревне. Судя по решенным делам Красноярской воеводской канцелярии за 1735 г., конный казак Константин Торгашин был зажиточным. Так, 18 июня он с работником Андреем Терских получил паспорт для торговой поездки в Иркутск. Месяцем позже, 12 июля, конный казак Михаил Торгашин нанял в работу до Иркутска же братьев Тотее-вых из койбальских татар [24, л. 81 об., 98 об.].
Из-за отсутствия храма торгашинские казаки духовные свои запросы долго отправляли в Красноярске. Среди служилых людей, судя по исповедным росписям 1769 года, были члены четырех дворов Торгаши-ных. Они всегда числились прихожанами престижного Красноярского Воскресенского собора. Все сыновья уже обзавелись семьями, но оставались в отцовских подворьях. Сын конного казака Михаила Михайловича, правнук Романа, с 1737 года отставной казак Петр Михайлович 50 лет (1719 – 17? ) с женой Меланьей (1681–1795) имел двух сыновей – казака Ивана 13 и Ивана же 7 лет, а также двух дочек. В его семье проживала и мачеха Федосья (1697 – 17? ), вдова его отца Михаила.
Общим двором жили дети конного казака Василия Михайловича – родные два брата – крестьянин Емельян Васильевич, 36 лет (1733–1805) с женой Ульяной Ивановной 35 лет, 10-летним сыном Иваном, двумя 161
дочками-погодками Евдокиями (2 и 1 год), да 30-летний крестьянин Петр Васильевич(1739 - 17? ) с женой Евдокией Матвеевной 24 г. (17391781), годовалой дочкой Екатериной и сестрой Параскевой 20 лет.
Сложным в семейном отношении был двор казачки, 55-летней вдовы Пелагеи Федоровны Торгошиной (1714-1773). Прямо не сказано, кто был ее мужем, но судя по исповедной росписи 1795 года, это Илья Иванович (1690 - до 1769), сын Ивана Петровича. Этот представитель второй, петровской, и двух первых ветвей общего родословия Торгашиных, в 1741 году нес годовую службу в Абаканском остроге.
Кроме трех его сыновей-казаков: женатого на 23-летней Марии Максимовой сына Емельяна, 26 лет, Стеф(п)ана 21 года, 18-летнего Якова и 10-летней дочери Марьи - с ними жил их вдовый дед, бывший сын боярский, записанный в крестьяне Иван 87 лет (1668 - ?) с дочкой Евдокией 38 лет [25, л. 10]. Судя по имени и возрасту, это Иван Петрович, который на склоне лет с семьей умершего Ильи вернулся в родную деревню Торгашинскую из д. Сыдинской. Возможно, на этом настоял его старший внук Алексей Ильич, живший в Красноярске. Он выслужил дедовское почетное звание «сын боярский» и выполнял ответственные поручения. Так, в 1769 г. этот «красноярский сын боярский Алексей Тор-гашин» на пяти подводах ездил в Томск за «хлебопахотными инструментами» для раздачи их приведенным из Тобольска посельщикам, которых российские помещики с 1760 года ссылали с зачетом рекрутов [26, л.84]. Косвенным подтверждением этого является проживание в д. Тор-гашинской по исповедной росписи 1795 г. самого Алексея Ильича Тор-гошина (1741 - ?) с женой Екатериной Константиновной (1752 - ?), сыном Ильей (1785) и тремя дочерьми на выданье - Еленой (1772), Марфой (1775) и Гликерьей (1780).
Другой же сын, казаком взятый в рекруты Яков Ильич (1751 - до 1802), вернувшийся с солдатской службы, остался в Красноярске с женой Ириной Васильевной (1745), годовалым сыном Петром и тремя подростками-дочерьми. Его братья - казаки Емельян и Степан - по-прежнему жили в Торгашино. У Емельяна Ильича был сын-подросток Осип (1780) и три дочки на выданье. У Степана с женой Феклой Дмитриевой (1771 - ?) показано шестеро детей, в том числе 17-летний Афона-сий, погодки Иван (1790) с Федором (1791), годовалый Степан (1795), дочь Васса 10 лет и пятилетняя Гликерия. Детей же братьев - казаков Емельяна и Петра - по шестой ревизии 1819 года уже записали крестьянами.
Так казачья ветвь Петра Петровича, младшего брата Якова, стала крестьянской. Только Яков Ильич стал канцеляристом и после смерти своей через дочь Авдотью породнился с казаками Суриковыми. 5 июня 1815 года ее взял в жены вторым браком конный сотник Матвей Иванович Суриков [26, л. 27, л. 18а; 77, 3, 7]. Еще раньше, с конца XVIII в., ка-зачье-крестьянские семьи Суриковых и Торгашиных стали вступать в 162
родственные связи. Этому способствовали, в частности, казачье прошлое и соседские контакты и по общей приходской общине. Так, 12 апреля 1808 г. казак конной первой сотни Тихон Степанович Суриков женился на дочери коренного казака Василия Торгашина Агрипине [28, л.17]. 30 января 1810 года казак Иван Степанович Торгашин взял в жены Матрену, дочь умершего крестьянина дер. Торгашинской Степана Сурикова [28, л. 8 об.].
У продолжателей первого (михайловского) ответвления основной Торгашинской ветви общего родословия – внуков Михаила Романовича, братьев Емельяна и Петра Васильевичей, сословный статус и места проживания еще больше разошлись, судя по исповедной росписи 1795 года. Петр по-прежнему жил в Торгашинской, оставался казаком, имел сына Василия (1780 – ?) и трех дочерей на выданье: Марфу 22 лет, Елену 21 года и Акилину 19 лет.
В Красноярске же «за Качей» поселился крестьянин Емельян Васильевич с тремя женатыми сыновьями. У 37-летнего крестьянина Ивана с 38-летней женой Вассой Шиханковой (1761–1854) были сын Дмитрий 19 лет (1789–1837), дочери Параскева 14 лет (1781– ?) и восьмилетняя Евдокия. Молодые, 22-летний конный казак Леонтий с женой-погодком, Анной Емельяновной, детей пока не имели. Младший же сын, крестьянин Иван 16 лет, возможно, не исповедовался, но почему-то, вопреки правилам, это не отметили. Он не умер, поскольку позже женился на Ярославе Прокопьевне (1779), которая в 1798 г. родила дочь Елену.
Важно отметить, что крестьянин Иван Емельянович – старший внук Василия, правнук Михаила, праправнук Романа, прапраправнук Якова Петровича, основателя Торгашинской – породнился с уже живущим в городе крещеным качинским «князцом» Шиканко Михаиловичем Филипповым 35 лет, женившись на представительнице его рода Вассе [25, л.21].
Таким образом, одно из ответвлений базовой ветви Романа Яковлевича уже к концу XVIII в. частично стало крестьянским и породнилось с местными качинцами.
Представитель второго (константиновского) ответвления базовой яковлевской ветви основного родословия, упоминавшийся второй внук Романа Яковлевича, казачий сын Андрей Константинович (1718 – до 1795), к 1728 г., как отмечалось, записан в крестьяне, и отец платил за него ежегодно с 1762 г. уже 1 руб.70 коп. прямого налога. Судя по исповедным росписям 1769 и 1773 годов, Андрей взял жену на 10 лет моложе. Марфа Григорьевна (1727 – до 1769/73) родила ему Ивана (1743–1802), Степана (1754–1839 ), Якова (1758 – до 1815 ) и дочерей Марью (1744) с Натальей (1761). Все дети оставались крестьянами. Старший Иван был женат на одногодке Авдотье Минеевой / Евдокии (1743–1807) и имел сына, 13-летнего Егора (1760–1825), будущего деда Прасковьи, жены художника [25, л. 34; 27, л. 68 об.]. В 1787 г. женатый его сын, Иван Анд- 163
реевич, с Авдотьей Минеевной, отделился от отца, построившись рядом. С ними отдельным двором жил сын Егор, записанный, как отец и дед, в крестьяне. Он женился в 21 год, взяв в жены старше на два года Марфу Козьминичну (1758 - 1820). У них уже было три сына - Федор (17801845) - будущий отец Прасковьи, матери художника; Матвей (17821839), Андриан (1784-1848) и двухлетняя дочь Татьяна (1785 - до 1800) [29, л.77]. v
По исповедной росписи 1795 года видно, что осиротевшие дети и внуки Андрея со своими семьями переселились из д.Торгашинской «за Качу», на заимку близ Красноярска, где уже жил Емельян с семьей. Там у Егора Ивановича с женой Марфой родились еще трое: Александр (1788 - ?), Ирина (1785) и Ефросинья (1791-1835). С 1802 года с Егором до смерти в 1807 году живет овдовевшая его мать. В 1820 году 60-летний вдовец Егор Иванович женился второй раз на Лукерье [28, л. 14; 29, л. 78, 79 об.].
У дяди Егора, крестьянина Степана Андреевича, жена Наталья Филипповна (1751) была старше на два года. Их семья состояла из сыновей Ивана (1774), Льва (1775), Семена (1788) и дочери - 12-летней Анны.
Третий сын Андрея Константиновича, крестьянин Яков (1758 - до 1815), взял в жены «Степаниду, Шиханкову дочь», которая была на пять лет его старше и тоже относилась в роду качинского князца Шиханка. У этих Торгашиных контакты с ясачными качинцами явно расширились. Так, вероятно, Федор даже побывал крестным отцом при крещении взрослого ясачного Семена Федоровича Торгашина (1757 - ?). По исповедной росписи 1795 г., этот 38-летний Семен с женой 47 лет жил общим двором в д. Торгашинской с братом Павлом 33 лет с женой-погодком Вассой и женатым на 17-летней Агрипине братом Иваном 28 лет. С ними жила мать хозяина, вдова Авдотья Никитична 57 лет [30, л. 35-35 об.].
По исповедной росписи 1811 г., Федор Егорович 29 лет с женой Анастасией (Ириной) Ивановной 22 лет (1789–1839) имели двух детей: Степана (1810-1849) и дочь Агафью (1808). С ними одним двором жили брат родной Матвей с женой Марианной, дочерью крестьянина Василия Лалетина из д. Шиверской (1785-1835) [29, л. 79 об.,82].
По выпискам С.Н. Мамеева из списков 6-й ревизии 1819 г., в Торга-шинской жили по-прежнему две семьи из ветви Петровичей. Уже у крестьянина, а не казака, Леонтия Емельяновича семья пополнилась, кроме Константина (1796-1842), еще двумя сыновьями - Иваном (1809) и годовалым Василием. У его брата Осипа семья состояла из жены, из двух сыновей - Василия 10 лет и Варфоламея 8 лет. С ними жила их бабка, 73-летняя мать Ивана Федосья (1746-?).
Из членов основной торгашинской ветви общей родословной в ревизии по д. Торгашинской показан двор дяди Федора Егоровича, 75летнего крестьянина Степана Андреевича с сыном Иваном 57 лет и женатым внуком, 28-летним Иваном же.
Семья же крестьянина Федора Егоровича Торгашина, будущего отца матери художника, вернулась в д. Торгашинскую позже. Мамеев приводит выписки о ней из 7-й ревизии 1832 года. По ней 51-летний Федор Егорович по-прежнему живет большой семьей. У брата Матвея родились дочери Анна (1814), Мария (1817) и Ольга (1820). У Александра с женой Агафьей были сын Иван (1807), Павел (1832) и дочь Соломония (1821). Были еще бездетные брат Андриан и дочь, старая дева Анна 33 лет. У самого же Федора с женой Анастасией, умершей от «горячки» в 1839 году, к тому времени родились сыновья Степан (1810 - ?), дочь Прасковья (1818-1895) и Гаврила (1824). Однако Федор почему-то не показал в сказке свою дочь Прасковью, которая по исповедной росписи за 1818 г., родилась 13 октября этого года. Возможно, девочка была слабенькой, и родители не чаяли, что она будет жить. «Воспреемницей» будущей матери Василия Ивановича Сурикова выступила тетя, 33-летняя «девица» Ирина. Правда, Мамеев ошибочно записал отца Прасковьи Федором Федоровичем.
Брат Прасковьи, 22-летний Степан Федорович, довольно рано женился на молодой Адотье, и у них родились три дочки-погодки Евлампия (1827), Мария (1828) и Татьяна (1829) [28, л. 4 об.; 29, л. 79 об., 82].
Об этих дочерях Степана, доводившихся художнику двоюродными сестрами, и своих двоюродных дедах, братьях Федоре и Матвее Егоровичах, в их доме тепло и сердечно вспоминал Василий Иванович Суриков на склоне лет в беседе с Максимилианом Волошиным, поэтом и художественным критиком: «Торгашины были торговыми казаками, но торговлей не занимались, чай с китайской границы возили от Иркутска до Томска. Старики неделенные жили. Семья была богатая™ Сестры мои двоюродные - девушки, совсем такие, как в былинах поется про двенадцать сестер. Трое их было: Таня, Фаля и Маша, дочери дяди Степана… Песни старинные пели тонкими певучими голосами. В девушках красота была особенная - древняя, русская. Сами крепкие, сильные. Волосы чудные. Все здоровьем дышало. Помню, старики, Федор Егорыч и Матвей Егорыч, под вечер на дворе в халатах шелковых выйдут, гулять начнут и «Не белы снеги» поют. Там старина была™» [30, л. 194-195].
Итак, прямая поколенная роспись матери великого художника Василия Ивановича Сурикова являлись старшей основной ветвью общего родословия Торго(а)шиных и состояла из девяти звеньев: пробанд Прасковья - дочь, Федор - отец, Егор - дед, Иван - прадед, Андрей - пращур, Константин - прапращур, Роман - прапрапращур, Яков - прапра-прапращур, Пётр - прапрапрапрапращур .
Обширное общее родословие Торгашиных состояло из двух ветвей (от Якова и Петра), каждая разветвлялась за 300 лет на несколько направлений, и даже неполное насчитывалось до 1000 человек различного сословно-социального статуса, рода деятельности, национальной принадлежности. В геноме гениального художника и со стороны матери отразились гены выходцев не только представителей двух (южной и северной) ветвей русского народа, но и самодийско-тюркского этноса.
Список литературы Родословие Прасковьи Торгашиной, матери великого русского художника Василия Ивановича Сурикова
- Тенин О.П. Из воспоминаний//Василий Иванович Суриков. Письма. Воспоминания о художнике. -Л.: Искусство, 1977.
- Евдокимов И.В. В.И. Суриков//Записки музея. -М., 1933. -Вып. XV;
- ГАКК. Ф-Р.1675. Оп.1. Д. 86. 99 л.; Подробнее: Мирошникова Т.И. У истоков архивного дела//Красноярский архивист, 2010. -№1. -С. 1.
- ГАКК. Ф-Р.1675.Оп.1. Д. 98. 24 л.
- Быконя Г.Ф. Новое о предках В.И. Сурикова, гениального русского художника//Социокультурное развитие Сибири: мат-лы Сибирского исторического форума (2-5 декабря 2014 г.). -Красноярск, 2014.
- Суриков В.И. Давние дни. Встречи, воспоминания. -М., 1941.
- Бахрушин С.В. Очерки по истории Красноярского уезда в ХVII в. -М.: Изд-во АН СССР, 1959. -Т. IV.
- Перепись города Красноярска и его уезда. 1719-1722. -М.: Ломоно-совъ, 2014; Фото и машинописное издание И.А. Сиротинина/подготовка текста и комментарии Г.Ф. Быконя, А.А. Лифшиц. Сноски на 1-ю ревизию далее даются по этому изданию.
- Российский государственный архив древних актов. Москва (РГАДА). Ф.214. (Сибирский приказ). Оп. 5. Д. 626; Д. 2242 (подворная (ланд-ратская) перепись), ныне показана в Оп.2. Д.1603. Л.15; Ф.350 (Ревизские сказки). Оп.3. Д.5537, ныне показана в Оп. 2. Д. 1061; Ф.1019 (Красноярская воеводская канцелярия). Оп.1. Д. 46. Л. 52-53; Д. 65. Л.49-66 об., 90; Ф.273. Оп.1. Ч.1. Д.31796. Л.10.
- РГАДА. Ф.214. Оп.1. Кн.70.
- Бахрушин С.В. Очерки по истории Красноярского уезда в ХVII в. -М.: Изд-во АН СССР, 1959. -Т. IV. -258 с.
- Оглоблин Н.Н. Описание столбцов и книг Посольского Приказа. -М.,1897. -Кн.1.
- РГАДА. Ф.214. Оп. 1. Кн. 438.
- Эту информацию любезно сообщил историк П.Н. Барахович. 15. РГАДА. Ф.214. Оп. 5. Д.2068.
- РГАДА. Ф.214. Оп.1. Кн.738.
- Оглоблин Н.Н. Красноярский бунт 1695-1698 гг. (к истории народных движений XVII века)//Журнал министерства народного просвещения. -1901. -47 с.
- РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 2242.
- Ватин В.А. Село Минусинское. Очерк истории. -Минусинск: Тип. Метелкина, 1914. -181 с.
- ГАКК. Ф.592. Оп. 2. Д. 3.
- Быконя Г.Ф. Казачество и другое служебное население Восточной Сибири XVIII -начала XIX века (демографо-сословный аспект)//Избр. тр. -Красноярск, 2015. -Т.3.
- РГАДА. Ф.214. Оп.1. Часть 8. Д.517.
- ГАКК. Ф. 592. Оп.1. Д.26.
- РГАДА. Ф.173. Оп.1. Часть 7. Д. 21782.
- ГАКК. Р-1. Ф. 1675.Оп.1. Д. 86; ГАКК. Ф. 592. Оп.1. Д. 26.
- ГАКК. Р-1. Ф. 1675.Оп.1. Д. 98.
- ГАКК. Р-1. Ф. 1675.Оп.1. Д. 86
- ГАКК. Ф. 5 92. Оп.1. Д. 216.
- Волошин М. Суриков (публикация и комментарии В.Н. Петрова). Л.: Художник,1985.
- РГАДА. Ф.214. Оп.1. Кн. 1023. Цит. по: Быконя Г.Ф. Заселение русскими Приенисейского края в XVIII в. -Новосибирск: Наука, 1981. -246 с.
- Сури-ков В.И. Письма. -М., 1941;
- Суриков В.И. Письма. -М., 1948;
- Василий Иванович Суриков. Письма. Воспоминания о художнике. -Л.: Искусство, 1977. -1948 c.
- Давиденко И. Василий Иванович Суриков. -Красноярск, 1948;
- Титова В.Г., Титов Г.А. В.И.Суриков. -М., 1956;
- Машковцев М.Г. Суриков. -М.,1960;
- Кончаловская Наталья. Ох, родина, родина//Красноярский комсомолец. -1963. -25 января;
- Кончаловская На-талья. Дар бесценный. -Красноярск, 1978. -С. 304;
- Кончаловская Н.П. Суриково детство. -Красноярск, 1989;
- Волошин М. Суриков (публикация и комментарии В.Н. Петрова). -Л.: Художник,1985;
- Титов Г.А. Суриков и Сибирь. Красноярск: Кн. изд-во,1999.
- Переписные книги г. Красноярска и Красноярского уезда 1671. -С. 215-230.