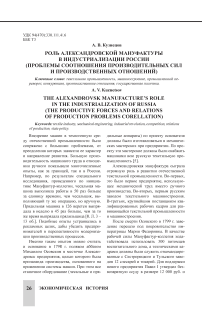Роль Александровской мануфактуры в индустриализации России (проблемы соотношения производственных сил и производственных отношений)
Автор: Кузнецов Алексей Владимирович
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: Индустриальное развитие
Статья в выпуске: 4 (19), 2012 года.
Бесплатный доступ
Роль легкой промышленности в формировании техногенной среды в период индустриализации и генезиса форм капиталистического производства трудно переоценить. Важным в этом отношении представляется аспект оснащенности предприятий отечественным механическим оборудованием. В данной статье рассматривается история развития одного из флагманов индустриализации в контексте экономической политики России в дореформенное время.
Текстильная промышленность, машиностроение, промышленный переворот, конкуренция, производственные отношения, государственная политика, мechanical engineering
Короткий адрес: https://sciup.org/14723644
IDR: 14723644 | УДК: 94(470):330.111.4/.6
Текст научной статьи Роль Александровской мануфактуры в индустриализации России (проблемы соотношения производственных сил и производственных отношений)
Внедрение машин в техногенную среду отечественной промышленности было сопряжено с большими проблемами, от преодоления которых зависели ее характер и направление развития. Большую производительность машинного труда в отношении ручного показывали многочисленные опыты, как за границей, так и в России. Например, по результатам специального исследования, проведенного по инициативе Мануфактур-коллегии, чесальная машина выполняла работы в 50 раз больше за единицу времени, чем чесальщик, выполняющий ту же операцию, но вручную. Прядильная машина в 126 веретен выпрядала в неделю в 45 раз больше, чем за то же время выпрядала прядильщица [8. Л. 3 – 13 об.]. Подобные опыты устраивались в рекламных целях, дабы убедить предпринимателей в перспективности модернизации производственных процессов.
Именно таким опытом можно считать и основание в 1798 г. поляком аббатом Михаилом Осовским в местечке Александровск предприятия, целью которого была пропаганда производства, основанного на применении системы машин. При этом все станочное оборудование (чесальные и пря- дильные аппараты) по проекту основателя должны были изготавливаться в механических мастерских при предприятии. По проекту эти мастерские должны были снабжать машинами всю русскую текстильную промышленность [5].
Александровская мануфактура сыграла огромную роль в развитии отечественной текстильной промышленности. Во-первых, это было первое предприятие, использующее механический труд вместо ручного производства. Во-вторых, первым русским заводом текстильного машиностроения. В-третьих, крупнейшим поставщиком квалифицированных рабочих кадров для развивающейся текстильной промышленности и машиностроения.
После смерти Осовского в 1799 г. заведение перешло под покровительство императрицы Марии Федоровны. В качестве рабочей силы Мануфактур-коллегия ходатайствовала использовать 300 питомцев воспитательного дома, а техническими кадрами должны были служить откомандированные с Сестрорецкого и Тульского заводов 12 слесарей и токарей. Для поддержки нового предприятия Павел I утвердил безвозвратную ссуду в размере 12 000 руб. и беспроцентную ссуду в 8 000 руб., освобождение от таможенных пошлин на ввозимые им сырье и материалы, а также запрещение на пять лет кому бы то ни было производить чесальные и прядильные машины. Александровская мануфактура носила название предприятия, основанного на применении ручной ремесленной техники только в силу традиции. На самом деле эта была одна из самых первых фабрик в России, оснащенная 17 различными станками [5].
Первоначально планировалось все оборудование приводить в действие с помощью воловьего или конного привода, однако накопленный с 1791 г. петербургскими заводами опыт парового машиностроения позволил применить более перспективный вид двигателя. В 1805 г. на предприятии установлена первая паровая машина, а спустя еще три года – первый в России механический ткацкий станок. Тип паровой машины, бесспорно, был уаттовским, с определением же марки станка возникают большие трудности. Автор специального исследования, посвященного истории Александровской мануфактуры, А. Е. Лурье, предполагает, что это был популярный в то время станок Хоррокса, изобретенный в 1803 г. В 1821 г. была установлена жаккардовая машина. К 1829 г. предприятие обладало уже 34 520 веретенами, а ассортимент станочного парка включал в себя 461 механический и ручной станок. Силовое хозяйство мануфактуры состояло из трех паровых машин совокупной мощностью 195 л. с. Все это оборудование обслуживали 1 594 рабочих. К 1848 г. станочный парк составлял 260 единиц, из которых 120 были механическими. На этом оборудовании производилось 34 000 пудов (544 т) льняной пряжи и 12 200 пудов (195,2 т) бумажной пряжи [5].
С постепенным укреплением экономического положения Александровской мануфактуры развивалось и текстильное машиностроение. Первая Московская бумагопрядильная фабрика Пантелеева и Александрова оборудовалась не без помо- щи столичной Александровской мануфактуры, с которой в 1808 г. на вновь устраиваемое предприятие были присланы образцы машин и мастера для их построения [5].
В 1826 г. для оборудования Московской механической бумагопрядильной фабрики Реннекампфа были изготовлены 132 станка. В 1833 г. Мануфактура изготовила для Петербургского технологического института подбор хлопкопрядильных машин, состоящий из трепальной, чесальной, ленточной, грубопрядильной и ровничной машин, а также мюль-машины основной на 240 веретен, мюль-машины уточной на 300 веретен и ватермашины. В 1845 г. Мануфактура строила машины для московского фабриканта Усачева и для суконного фабриканта Торнтона. Машиностроение на Александровской мануфактуре в наиболее интенсивный период деятельности в денежном эквиваленте выражалось следующим образом: в 1835 г. – 200 000 руб., в 1836 г. – 360 000 руб. и в 1838 г. – 500 000 руб. Кроме хлопкопрядильных станков, предприятие выпускало и льнопрядильные станки как для сухого, так и для мокрого прядения, а также кардонаборные, топографические машины и металлообрабатывающие станки. Можно сказать, что механические станки, изготовленные Александровской мануфактурой, были самыми распространенными на фабричных хозяйствах легкой промышленности России [5].
Начиная с XVIII в. в России, с некоторыми отклонениями от генерального курса, господствовала покровительственная тарифная система. Только с начала XIX в. возникают сомнения в необходимости сохранения пошлин на ввозимые товары. На фоне прозападной ориентации правительства Александра I и под влиянием международной обстановки появляется «фритредерский» тариф 1819 г. Однако чрезвычайно либеральная система 1819 г. оказала губительное воздействие на отечественное индустриально-рыночное развитие вследствие большей конкурентоспособности немецких и английских фа- бричных изделий. Поэтому в 1822 г. был установлен протекционистский тариф, сохранявшийся без изменений на протяжении всего министерского срока Е. Ф. Канкри-на (1823–1844 гг.). Сам министр финансов оценивал тариф 1822 г. как «меру благонадежнейшую» для содействия развития промышленности [1, с. 60, 64]. Перемена, последовавшая вслед за изменением тарифной политики, имела благотворное влияние на отечественную индустрию и, по сообщению редакции «Журнала мануфактур и торговли», «была в особенности источником богатства и благосостояния шелковых фабрикантов» [6, с. 21]. Конкуренция со стороны иностранной фабрично-заводской промышленности была ослаблена, но зато возникла конкурентная борьба на внутреннем рынке. Ограничение привоза бумажной пряжи из Англии и значительные прибыли побудили многих помещиков и капиталистов к внедрению в России бумагопрядения. Несмотря на трудности и невероятные издержки, вновь образуемые фабрики ради роста производительности оснащались импортным и отечественным механическим оборудованием [3, с. 105]. Период 20–30-х гг. являлся довольно успешным и для отечественного текстильного машиностроения.
По свидетельству московского генерал-губернатора, «через снабжение фабрик, мануфактур и заводов разного рода машинами, приводами и аппаратами сохраняются в государстве миллионные суммы, которые в другом случае потребовались бы на выписку переводить за границу» [7. Л. 176]. В данной связи заслуживает внимания тот факт, что машиностроительная продукция отечественного производства не уступала иностранным машинам в совершенстве выделки, качестве и технологических параметрах. В решающей степени появление такого рода позитивных моментов было связано с рационализацией производственного процесса, повышением эффективности его экономической организации. Некоторые из них, благодаря инновационному характеру предпринимательского поведения, смогли достичь производственных и коммерческих успехов.
Экономическому росту текстильного машиностроения помешала отмена в 1842 г. английского закона о запрете вывоза машин за границу. С этого времени стал значительно возрастать импорт машин и оборудования в Россию, который теперь составлял ежегодно:
1839–1843 гг. – 384 000 руб.
1844–1846 гг. – 1 164 000 руб.
1848–1850 гг. – 1 751 000 руб.
1851–1855 гг. – 2 785 000 руб.
1856–1860 гг. – 3 105 000 руб.
Одновременно с резким увеличением импорта иностранного технического оборудования с 1844 г. наметилось стремительное падение производства машин на Александровской мануфактуре. Вследствие конкуренции иностранных машиностроительных фирм на предприятие стало поступать все меньше и меньше заказов. В 1847 г. заказов было на сумму 20 000 руб., а в 50-х гг. XIX столетия этот показатель не превышал уже отметки 10 000–11 000 ежегодно [5, с. 100]. Подобная тенденция существовала вплоть до 60-х гг. XIX в., когда прежде передовое машиностроительное предприятие пришлось закрывать.
История Александровской мануфактуры как предприятия-пионера, прежде всего для текстильного машиностроения, довольно показательное явление, раскрывающее свойства становления предпринимательской инициативы в России. Отечественная индустрия начинала первый виток благодаря государственному вмешательству в XVII в. В этот период промышленное предприятие приняло форму крепостной мануфактуры, приспособленной к условиям феодализма. Эта приспособленность была причиной роста мануфактурного производства в XVIII в. Создавая казенные предприятия, государство затем очень часто передавало их в частные руки, стимулируя тем самым развитие частной инициативы. Однако в условиях зарождающегося промышленного переворота промышленность, ориентированная на применение ручного принудительного труда, переставала отвечать экономическим требованиям [2]. И вновь выход из назревающего кризиса пришлось искать правительственным чиновникам. Новый цикл развития российской индустрии связан с внедрением фабричного производства, основанного на вольнонаемном труде. Именно с такой целью были основаны и переоборудованы Александровская мануфактура, Петербургский и Александровский литейные заводы и т. д. В этой связи не лишним будет привести текст прошения на имя императора Александра II российских предпринимателей Янова и Бенардаки об уступке им казенной Александровской мануфактуры:
«В конце прошлого столетия, когда мануфактурная промышленность в России едва возникла, необходимо было указать ей путь и пример, держась которых она с пользою могла идти к совершенствованию. На этот конец правительство решилось устроить образцовые казенные фабрики и заводы в обширных размерах, жертвуя при этом, в видах будущей пользы для всей отечественной промышленности, значительными поддержками.
В последние 20 лет частные фабрики наши при содействии покровительственного тарифа и усиливаемые требованиями на все мануфактурные изделия, достигли значительной степени устройства и не только не имеют надобности в казенных образцах, но во многом превзошли их и даже, можно надеяться, не замедлят вступить в соперничество с западом.
Напротив того, казенные фабричные учреждения, имея с самого начала другую более обширную цель и достигнув своего назначения тем, что дали частной предприимчивости толчок и поучительный пример, постепенно уменьшали затем круг своих действий и незаметно отставали по самому механическому искусству… Они стеснены особыми положениями, приписными, казенными рабочими, сложной администрацией и прочее… вследствие всех этих при- чин казенные фабрики в настоящее время пришли в совершенный упадок и составляют одно лишь бремя для Правительства» [5, с. 100–101].
Примером текстильного предприятия, производство которого полностью ориентировалось на применение машинного труда, являлась в 50-х гг. фабрика Каулина и Залогина в Твери. Предприятие состояло из двух четырехэтажных прядильных корпусов и одного трехэтажного ткацкого. В первом прядильном корпусе работали паровые машины совокупной силой до 120 л. с., во втором – машина в 60 л. с. Число веретен – 60 000; следовательно, на каждую тысячу веретен приходится по три лошадиные силы. При полном ходе машин в сутки выпрядалось от 8,8 до 9,28 т пряжи. Ткацкий корпус содержал 340 станов, приводимых в движение двумя соединенными паровыми машинами общей мощностью 40 л. с., что соответствовало распределению мощности в одну лошадиную силу на 8,5 станка. Челнок каждого ткацкого стана клал до 120 нитей в минуту. На фабрике работали 3 000 чел., которым ежемесячно выплачивалось 19 500 руб., т. е. в среднем по 6,5 руб. на человека [4]. Однако подобные предприятия не стали нормой для дореформенной легкой промышленности, составляя скорее меньшинство, чем большинство на фоне предприятий, использующих непроизводительный ручной труд крепостных крестьян.
Журнал мануфактур и торговли высказал довольно типичную для российской действительности причину малого интереса отечественных предпринимателей к механическому производству: «Заработная плата у нас так незначительна, что можно спокойно смотреть на все заграничные изобретения по части механики, служащие к уменьшению числа рук при работах» [6, с. 37]. Действительно, в промышленности все еще был широко распространен принудительный труд. Даже накануне реформы 1861 гг. 33–34 % всех рабочих России, общая численность которых составляла 800 тыс. чел., были крепостными. Текстиль- ная промышленность первая переключилась к производственным отношениям, характерным для капиталистических предприятий, причем это произошло уже в первые два десятилетия XIX в. Следовательно, она уже в это время была готова к переходу к фабричному способу производства. Одна- ко здесь она столкнулась с неразвитостью отечественной машиностроительной индустрии, не готовой к такому повороту событий. Поэтому отечественная текстильная промышленность в основном ориентировалась на техническую поддержку западноевропейской промышленности.
Список литературы Роль Александровской мануфактуры в индустриализации России (проблемы соотношения производственных сил и производственных отношений)
- Арсентьев В. М. От протоиндустрии к фабрике: модели производственно-отраслевой специализации и механизм функционирования промышленности России в первой половине XIX века (по материалам Среднего Поволжья)/В. М Арсентьев. -Саранск, 2004.
- Арсентьев Н. М. Влияние предпринимательской инициативы на развитие металлургической промышленности России в XVIII -первой половине XIX в./Н. М. Арсентьев, С. В. Кузьмина//Индустриальное наследие: материалы Междунар. науч. конф., Саранск, 23-25 июня 2005 г. -Саранск, 2005.
- Бумагопрядение в Москве//Мануфактур. и горнозавод. известия. -1843. -№ 51.
- Ершов А. Заметка о перевозных английских пожарных трубах и о тверской мануфактуре Каулина и Залогина//Вестн. промышленности. -1859. -Т. IV, № 12.
- Лурье А. Е. Роль Александровской мануфактуры в развитии текстильного производства и машиностроения в России первой половины XIX века/А. Е. Лурье//Труды Института истории естествознания и техники. Т. 13: История машиностроения и транспорта. -М., 1956.
- О мануфактурной промышленности в Москве.
- РГИА (Рос. гос. ист. арх.). -Ф. 37. -Оп. 3. -Д. 568. -Л. 176.
- РГИА. -Ф. 758. -Оп. 24. -Д. 365. -Л. 3 -13 об.