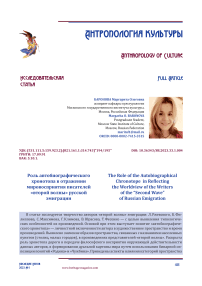Роль автобиографического хронотопа в отражении мировосприятия писателей «второй волны» русской эмиграции
Автор: Баронова Маргарита Олеговна
Журнал: Наследие веков @heritage-magazine
Рубрика: Антропология культуры
Статья в выпуске: 1 (33), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется творчество авторов «второй волны» эмиграции: Л. Ржевского, Б. Филиппова, С. Максимова, Г. Климова, В. Юрасова, Т. Фесенко - с целью выявления типологических особенностей их произведений. Основой при этом выступает понятие «автобиографического хронотопа» - личностной включенности автора в художественное пространство и время произведений. Выявлено значение образов пространства, связанных с названиями населенных пунктов (столиц, малых городов), в произведениях представителей «второй волны». Раскрыта роль хронотопа дороги в передаче философского восприятия окружающей действительности данных авторов, в формировании дуальной картины мира путем использования бинарной оппозиции понятий «Родина» и «Чужбина». Приведены аспекты влияния категорий пространства и времени на раскрытие диалектических особенностей творчества; сделаны выводы об инкорпорировании представителей «второй волны» эмиграции как в культуру русского зарубежья, так и в культурное наследие метрополии - России.
Русское зарубежье, «вторая волна» эмиграции, образ родины и образ чужбины, духовно-культурная ценность, хронотоп, м. бахтин, л. ржевский, т. фесенко, б. филиппов, в. юрасов, г. климов, с. максимов
Короткий адрес: https://sciup.org/170199692
IDR: 170199692 | УДК: [531.111.5:159.923.2]:[821.161.1:314.743]’’194/195’’ | DOI: 10.36343/SB.2023.33.1.004
Текст научной статьи Роль автобиографического хронотопа в отражении мировосприятия писателей «второй волны» русской эмиграции
Культура «второй волны» русской эмиграции представляет собой сложное, многогранное явление, связанное с событиями Второй мировой (Великой Отечественной) войны и хронологически относящееся к 1940-1950 гг. XX в., когда многие наши соотечественники оказались на оккупированной территории или в плену. Людям, по тем или иным причинам попавшим на Чужбину, особенно тяжело было сделать свой духовнонравственный выбор: вернуться на Родину, где их считали предателями, или попытаться избежать репатриации и пройти через депор-тационные лагеря. Неоднозначное отношение к дипийцам (название «Ди-Пи» восходит к английскому «displaced persons» (перемещенные лица) — так называли людей, оказавшихся в лагерях для перемещенных лиц в Европе в послевоенное время) является причиной того, что, как отмечает М. Бабичева, произведения писателей «второй волны» знакомы очень узкому кругу читателей и исследователей [7, с. 7].
Только в конце ХХ — начале XXI вв. начинают выходить в свет учебные пособия, в которых дается обзор культуры «второй волны» эмиграции, в частности «Культурный ренессанс Русского Зарубежья» А. Аронова [5], «История отечественной эмиграции» О. Антропова [4]. В это же время появляются немногочисленные диссертации, затрагивающие рассматриваемую проблематику: исследование Е.Аурилене [6], в котором освещаются проблемы российской эмиграции в Маньчжурии в 30– 40-е гг. ХХ в. на примере деятельности Бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурской империи; диссертации, посвященные углубленному изучению творчества отдельных представителей «второй волны» — И. Чин-нова [18] и Л. Ржевского [10]. Издательская деятельность российской эмиграции, вклю- чая «вторую волну», рассмотрена в работе П. Базанова [8].
Одним из тех, кто внес большой вклад в возрождение «забытых имен», является В.Агеносов, обобщивший свои выводы в учебных пособиях [3] [2] [1]. Исследуя творчество «второй волны», он подчеркивает, что «писатели Ди-Пи привнесли в русскую литературу то, что не знали и не могли сказать авторы, покинувшие Россию в 1920-е гг.: художественное повествование о жизни русского народа при советской власти» [3, с. 4]. Отмечается и тот факт, что «в стихах и прозе писателей… воплотился опыт Второй мировой войны, личные впечатления о фашистских лагерях и немецкой оккупации» [3, с. 4], обращается внимание на высокую оценку, данную представителям «второй волны» И. Буниным, Г. Ивановым. Наиболее полным исследованием о «второй волне» эмиграции является монография М. Бабичевой «На чужбине писали о Родине» [7], в которой представлены библиографические очерки о представителях «второй волны», анализ лучших произведений. По мнению исследователя, можно оценить «прозу второй волны русской эмиграции как историко-культурный феномен» [7, с. 7].
В условиях возрождения интереса в России к историческому и культурному прошлому становится актуальным изучение проблематики взаимоотношений писателей-эмигрантов с Родиной, а также детерминация их роли в культурном наследии России. Этой проблеме посвящена статья А. Коновалова, размышляющего о миссии России через аксиологическую парадигму [15]. Т. Гордиенко обращается к нравственному потенциалу поэзии представителей «второй волны» и возможностям его использования в работе учителя литературы [13].
Проблема анализа автобиографического хронотопа как личностной включенности писателей «второй волны эмиграции» в художественное пространство и время своих произведений не находила ранее отражения в исследованиях. Представляется актуальным путем анализа категорий пространства и времени, которые приобретают ценностное значение в контексте проблем культуры русского зарубежья, раскрыть особенности мировосприятия тех, кто жил территориально вдали от Родины, но был связан с ней духовно. В процессе анализа отмечается прецедентное единство личностных обстоятельств и нравственных ценностей субъектов русской культуры за рубежом, нашедшее выражение в особенностях их литературной деятельности 40–60-х гг. ХХ столетия, что позволяет выделить ряд типологических особенностей прозы «второй волны» эмиграции на примере творчества вышеуказанных авторов.
Роль хронотопа как неразрывной связи категорий пространства и времени можно проследить на примере анализа творчества таких авторов «второй волны» эмиграции, как Л. Ржевский (Суражевский), Г. Климов (Калмыков, Ральф Вернер), С. Максимов (Пасхин, Пашин, Широков), Б. Филиппов (Филистинский), В. Юрасов (Жабинский), Т. Фесенко (Светенко). Они, как и многие другие, оказались за рубежом в годы Второй мировой войны. Среди них — интеллигенты, не принявшие жестокости тоталитаризма (Г. Климов, Б. Фесенко, В. Юрасов); дворяне, вынужденные приспосабливаться к советской действительности (Л.Ржевский); репрессированные, пережившие реалии ГУЛАГа (С. Максимов, Б. Филиппов). Отрыв от Родины и чувство вины перед ней явились решающими факторами формирования представителей данного этапа русской эмиграции как литераторов.
Методологический подход, примененный в ходе исследования, определен взглядами М. Бахтина и его классификацией хронотопов культуры, представленной в труде «Формы времени и хронотопа в романе: очерки по исторической поэтике» [9]. Использование аксиологического метода способствовало раскрытию связи ценностей с культурными, социальными аспектами жизни и личностями авторов. Инструментом исследования является анализ хронотопа: использование категорий реального и абстрактного пространства, реального и художественного времени в произведениях.
Представляется, что исследование внесет посильный вклад в изучение круга проблем, связанных с мировосприятием и культурной идентификацией писателей Русского Зарубежья.
***
В произведениях писателей «второй волны» реальное пространство изображается как конкретное и условное, сжатое и объемное, замкнутое и открытое. Так, географические границы охватывают все направления, связанные с эмиграцией из России в XX в. (Китай, США, страны Европы), однако конкретные страны выступают фоном для тех или иных событий и объединяются топосом «Чужбина». Данное понятие сопоставляется с Родиной (Россией) и рассматривается как вынужденное место проживания, ассоциирующееся со свободой творчества, однако не удовлетворяющее духовной потребности единства с родной страной.
В творчестве представителей «второй волны» пространство часто связано с названиями городов, деревень, рек и других географических объектов в значении «малой Родины», что позволяет в том числе сделать выводы о глубинной, симбиотической духовной связи представителей «второй волны» русской эмиграции с Россией. Оно может быть как мнемотическим — отражающим объективное пространство, так и онирическим — пространством воображения, сновидений. Так, в творчестве Л. Ржевского Москва выступает в роли связующего звена для событий различного рода важности, лейтмотивом воспоминаний: «Эту повесть я начал в Москве! Москва! Когда, зажмурившись, произношу я это имя, я слышу московский воздух» [19, с. 55],— так начинается «Сентиментальная повесть». Как отмечала М. Бабичева, «в прозе Ржевского Москва и Подмосковье — это и место действия, и самостоятельный устойчивый образ» [7, с. 250]. Москва Л. Ржевского — это и Девичье поле, Зубовская Площадь, Моховая — места, связанные с его учебой во 2-м МГУ. Это и небо Замоскворе- чья, о котором вспоминает во время тяжелой болезни Вятич в оптимистической повести «…Показавшему нам свет». А Володя Заботин, герой повести «Между двух звезд» (часть третья, «Дневник Володи Заботина»), мысленно переносится в Арбатские переулки — уголок «завечеревшей Москвы», откуда можно наблюдать «Успенье на Могильцах» [20]. К Москве как ностальгическому элементу, памяти о поре отрочества обращается и Б. Филиппов в «Памяти сердца»: для него она прежде всего связана с «кондитерскими изысками», возможностью «вкусно поесть и сладко попить», «гастрономическими приманками киосков Масленицы и Вербы» [23, с. 244].
Однако Образ Москвы в литературе «второй волны» не всегда связан с положительными воспоминаниями. Для героев «Параллакса» В. Юрасова [26] и «Песни победителя» Г. Климова [14] Москва — это враждебный город, который ассоциирован с неизбежным общением с сотрудниками МГБ, а следовательно, постоянным страхом и невозможностью чувствовать себя свободным. В какой-то степени город и выталкивает героев этих произведений «прямо на запад», «навстречу будущему». Враждебной становится Москва и для художника Ильи Кремнева из повести С. Максимова «В сумерках» [16]. Потеряв своего друга Горечку, покончившего жизнь самоубийством, он уезжает на Волгу, которая воспринимается «как символ и в то же время материализованное воплощение самой русской души» [7, с. 191].
Наряду с Москвой герои часто вспоминают «Петербург, не ставший тогда Ленинградом» [23, с. 247], город юности, который в то же время связан с «нежданными ночными гостями» [23, с. 282] и «удушающей хваткой Медного Всадника» [14, с. 532].
Этим двум столицам, изображенным в дуальном контексте, противопоставляются небольшие города, которые выполняют роль ранее упомянутой ностальгически очерченной «малой Родины». Смоленск, деревня Горки, «Приднестровский отчий край» — для героев поэмы В. Юрасова «Василий Теркин после войны» [25], Новочеркасск — для героя «Песни победителя» Г. Климова [14], Переделкино — для семьи Широковых — героев однои- менной пьесы С. Максимова [16]. Упоминание малых населенных пунктов, с одной стороны, способствует передаче драматизма войны: при описании отступления советских войск, которое привело Заряжского в плен (повесть Л. Ржевского «Между двух звезд), мелькают названия деревень: Меринка, Первомайская, Константиновка, Орехово. С другой стороны, эти места являются тем прибежищем, где герои могут скрыться от жизненных невзгод, как деревня «Победа» в Шуйской области, куда приезжает к родителям Василий Трухин с невестой Соней Паниной, которой чудом удалось освободиться из Асбестлага (В. Юрасов «Параллакс»).
Зачастую авторы прибегают к приему типизации, не упоминая конкретного названия населенного пункта и подчеркивая, что подобное могло произойти, где угодно: городок Б., на окраине которого расположился лагерь, куда попадают Заряжский с Милицей, городок Г— «один из тех, что был ближе к Борисову» [20, с. 19]; «провинциальный пыльный городок», куда «памятью сердца» возвращается герой рассказов Б. Филиппова Андрей [23]. Иногда упоминающееся в произведении географическое название является вымышленным. Так, город детства Милицы (Л. Ржевский «Между двух звезд», часть вторая «Девушка из Бункера») Старгород в реальности не существует, но упоминается в произведениях Н. Лескова, а также в «12 стульях» И. Ильфа и Е. Петрова. Прообразом Старгоро-да называют Старобельск, Воронеж, Ногинск. При этом существует село с таким названием в Львовской области Украины. Таким же собирательно-вымышленным является и городок Садбищенск в рассказах Б. Филиппова.
Следует обратить внимание на то, что географические названия связаны с образом не только Родины, но и Чужбины. При этом они могут ассоциироваться как с духовной свободой и служить антитезой репрессиям того времени и насильственной репатриации (Мюнхен, Альпы, Дрезден, Пильзен, Далем-дорф), так и приравниваться к ним (лагерь Регенсбург, лагерь Платтлинг — у Л. Ржевского и В. Юрасова). Особое место в произведениях этого периода уделяется географическим названиям, связанным с описанием лагерей, как в СССР (Асбестлаг, Свердловск, Тавда), так и в Германии (Платтлинг).
Наряду с реальным пространством, которое разрывается на части, связанные с прошлым (Россия) и настоящим (то, где герои находятся в событийное время), существует абстрактное пространство: «везде и нигде», «мир смутных очертаний, где нет ни ясных норм, ни творческих дерзаний», «где-нибудь в Германии», «уйдя в бездонный ужас пустоты» [11]. Обобщенно-абстрактные и метафорические образы пространства объединяют настоящее и прошлое в жизни человека и подчеркивают «вечный» внутренний конфликт между чувством и разумом, трудность нравственного выбора.
Хронотоп дороги способствует созданию амбивалентности образов Родины и Чужбины: мотив движения, который можно трактовать как бегство от самого себя или, наоборот, обретение своего места в новых реалиях. Это может быть как обращение к античности («На окраине города, ночью, в Европе... Одиссей из России,— вернись к Пенелопе!» Игорь Чиннов [11, с. 9]), так и описание реальных событий, нелегкого жизненного пути представителей Ди-Пи («Давным-давно он заколочен. Давным-давно в нем ни души. Теперь попроще, покороче: Бараки. Визы. Барыши». Александр Неймирок [17, с. 91], «Дорога кончилась: отсюда — в никуда». Иван Елагин [17, с. 473]).
Метафорический образ дороги имеет различную коннотацию в произведениях разных писателей, напрямую завися от особенностей философского мироосмысления конкретным автором. Это могут быть поиски самого себя, своего места в новом мире, как в поэзии Ирины Бушман: «Найду лишь новый путь, иль, может, не один…И я тебя люблю за то, что ты дорога, что можно по тебе идти, идти, идти...» [17, с. 270]. У Ивана Елагина восприятие дороги трагично и безысходно: «Ни Коно-топа, ни вселенной, а только есть одна дорога, а на дороге катастрофы...» [17, с. 233]. В творчестве Л. Ржевского дорога ведет к «вечному покою», у Б. Филиппова она бесконечна. В авторском осмыслении Б. Ширяева дорога представляет собой замкнутый круг: «Логика же в том, что земля кругла и, идя неуклонно на Запад, сквозь Запад, мы безусловно придем к Востоку. Нужно лишь идти, не задерживаясь в уютных долинах, не боясь крутых гор, не увязая в болотах... Идти вперед. Тогда придем. Неизбежно придем» [24, с. 268].
Таким образом, категория пространства помогает раскрыть дуальность восприятия образа Родины в литературе «второй волны» эмиграции: ностальгия по родным местам сменяется неприятием того, что происходит на Родине, и наоборот: «...бежали не от России, а от большевистской власти» [26, с. 190]. Так же неоднозначно понятие Чужбины, которое символизирует обретение желанной свободы, но неразрывно связано со страхом из-за возможной депортации.
Мысли и чувства авторов и их героев репрезентируются и посредством категории времени. Его континуальность расчленяется на прошлое, настоящее и будущее. При этом возникают две категории времени: реальное и художественное. Реальное состоит из настоящего (годы Великой Отечественной войны или послевоенные годы) и прошлого (довоенное время). Художественное время делится на конкретное («Следственная тюрьма для политических заключенных. Пять часов вечера» [21, с. 189], «Шел 1937 год», «В марте 1938 года в квартиру Костомаровых властно постучали» [21, с. 217]) и абстрактное. Время расширяется, двигаясь от конкретного к абстрактному, от точного к расплывчатому, что создает ощущение движения к вечности. От сиюминутного, житейского (точного времени) повествование развивается и идет вдаль, к вечному и непреходящему, эсхатологическому времени: «Пусть звезды живут миллиарды лет, а моя земная жизнь длится только семьдесят, но ведь это все условно. После моей смерти наша галактика будет продолжать заданный ей путь. Мое тело умрет, но мой дух будет жить!», «...время — ничто. Важны его последствия!» [21, с. 108].
Категории пространства и времени выступают как единое целое, помогая раскрыть диалектику души персонажей. Обращаясь к классификации хронотопов, данной М. Бахтиным [9], можно выделить идиллический (время, проведенное в родительском доме), авантюрный (испытания в чужом мире), карнавальный (место временного переосмысле- ния ценностей). Вместе они помогают создать обобщенную картину эпохи.
Наглядным примером является произведение Т. Фесенко «Повесть кривых лет»: безмятежные детство и юность, проведенные в отчем доме («дом моей юности прятался в тени огромной липы, словно стараясь уберечься от горя и непогод» [22, с. 34]), сменяются насильственным переселением в дом чужой сначала из-за ареста отца, а потом из-за оккупации города фашистами и вынужденного отъезда в Германию («Большая солнечная комната с балконом, невероятно грязная и запущенная, изуродованная фанерными перегородками, стояла с настежь открытой дверью, со взломанным замком. Все, что осталось от прежних соседей, эвакуировавшихся на Урал» [22, с. 83]). Покидая Киев, героиня осознает, что это «разрыв с прежней жизнью, и, может быть, безвозвратный» [22, с. 94]. Жизнь в лагере Ди-Пи становится отправной точкой невозврата: «Горькая тоска по родине, отцу и друзьям может сочетаться с ненавистью к существующему строю, лживость и уродливость которого особенно ярко раскрылась за годы войны, когда можно было прочесть и увидеть многое, до тех пор скрытое за семью замками» [22, с. 123].
Экстраполяция прошлого на настоящее и будущее определяет выбор не только Т Фесенко, но и целого поколения: «…предвоенные молодые годы… показаны на черном фоне коллективизации, ежовщины; затем — Вторая мировая война, немецкая оккупация, с потрясающими воображение мрачными зарисовками военного лихолетья; а дальше — тяжкий путь через всю дымящуюся Европу, с вечным страхом Ди-Пи перед насильственной репатриацией. В этой документальной, правдивой и драматичной, повести… особенно ценным сегодня становятся свидетельства о жизни “перемещенных лиц” в Германии сразу после войны» [12].
***
Таким образом, проанализировав категории пространства и времени в творчестве писателей «второй волны» эмиграции, мы пришли к выводам о подчеркнутой автобиографичности их произведений, прототипом героев является сам автор — человек, кото- рый в силу разных причин оказался на Чужбине, но не может забыть Россию. Среди тем произведений превалирует осмысление событий Великой Отечественной войны, политических репрессий и положения авторов в лагерях Ди-Пи. Категории пространства и времени в литературе данного периода выступают как единое целое, помогая раскрыть «диалектику души» писателей и их героев.
Научная новизна исследования заключается в том числе в изучении мировоззрения русской эмиграции «второй волны» со стороны отражения в нем бинарной оппозиции образов Родины и Чужбины. Выявлено, что в творчестве представителей «второй волны» пространство часто связано с названиями географических объектов в значении «малой Родины», что позволяет сделать выводы о симбиотической духовной связи представителей «второй волны» русской эмиграции с Россией. Пространство реальное изображается как конкретное и условное, географические границы охватывают все направления, связанные с эмиграцией из России в XX в., однако конкретные страны выступают фоном для тех или иных событий и объединяются топосом «Чужбина». Данное понятие сопоставляется с Родиной (Россией) и рассматривается как вынужденное место проживания, ассоциирующееся со свободой творчества, однако не удовлетворяющее духовной потребности единства с родной страной, дуальный образ которой является лейтмотивом творчества представителей «второй волны» эмиграции. Географические названия, связанные с образом Чужбины, ассоциированы с духовной свободой и служат антитезой насильственной репатриации. Нередко используется прием типизации, демонстрирующий прецедентное единство субъектов русской культуры за рубежом.
Исходя из анализа первоисточников и мемуаров, в нашем исследовании был отмечен ряд текстологических особенностей, в том числе связанных с категориями пространства и времени, позволяющих констатировать парадоксальную закономерность: вопреки эмиграции, обусловленной целым комплексом исторических и социальных обстоятельств, нельзя говорить об оторванности от родной почвы писателей и поэтов «второй волны», равно как и об их неприятии России, однозначной антипатии к ней. Они, не принимая ряд аспектов политики родной страны, в то же время испытывали ярко выраженную духовную и культурную связь с Родиной, в том числе ностальгические чувства и душевные переживания из-за невозможности вернуться в Россию. Думается, что критичность отношения представителей «второй волны» эмиграции к родной стране не противоречит патриотическим чувствам. В связи с этим необходимо подчеркнуть, что литература «второй волны» играет важную роль в культуре Русского Зарубежья и является неотъемлемой частью культурного наследия России, поскольку, несмотря на факт эмиграции, своим творчеством писатели и поэты «второй волны» популяризируют и актуализируют образ родной страны в общемировом культурном пространстве, способствуя включению отечественной литературной традиции в европейский контекст.
Представляется перспективным дальнейшее изучение жизни и творчества представителей русской эмиграции «второй волны» через предложенное нами понятие «автобиографического хронотопа» как личностной включенности автора в художественное пространство и время своих произведений, поскольку в общей картине культуры Русского Зарубежья все еще остается много лакун. По-прежнему нет единого исследовательского подхода к изучению культуры русской эмиграции XX в., кроме того, как упоминалось выше, сохраняется множество предубеждений относительно данного культурно-исторического периода, связанных прежде всего с политическими и историческими реалиями, влиянием жизненных обстоятельств на духовнонравственные ценности представителей эмиграции. Нет фундаментального, полного анализа, касающегося влияния социальнополитических и жизненных обстоятельств эмигрантов «второй волны» на их культурнотворческую реализацию. Мало исследованы типологические черты художественной литературы данного периода, не все произведения подвергались системному культурологическому и филологическому анализу. Во многом именно вышеуказанные «пробелы» в научных исследованиях являются причиной распространенного, однако не подкрепленного достаточными научными обоснованиями мнения о том, что представители «второй волны» эмиграции не оставили заметного следа в культуре XX в.
The Role of the Autobiographical Chronotope in Reflecting the Worldview of the Writers of the “Second Wave” of Russian Emigration
Список литературы Роль автобиографического хронотопа в отражении мировосприятия писателей «второй волны» русской эмиграции
- Агеносов В. В. История литературы русского зарубежья. Вторая и третья волны: учебник для вузов. М.: Юрайт, 2020.
- Агеносов В. В. История литературы русского зарубежья. Первая волна: учебник для вузов. М.: Юрайт, 2020.
- Агеносов В. В. Литература Русского Зарубежья (1918–1996): учеб. пособие для студентов пед. Вузов и учащихся сред. учеб. заведений. М.: Терра спорт, 1998.
- Антропов О. К. История отечественной эмиграции: учеб. пособие. Астрахань: Астраханский ун-т, 2011.
- Аронов А. А. Культурный Ренессанс Русского Зарубежья: учебное пособие для гуманитарных вузов. М.: Экон-Информ, 2007.
- Аурилене Е. Е. Российская эмиграция в Маньчжурии в 30–40-ые годы ХХ века: на примере деятельности Бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурской империи: автореф. дис.… канд. ист. наук. Владивосток, 1996.
- Бабичева М. Е. На чужбине писали о Родине: монография. М.: Пашков Дом, 2020.
- Базанов П. Н. Издательская деятельность политических организаций русской эмиграции (1917–1988 гг.). СПб.: Санкт-Петербургский гос. ун-т культуры и искусств, 2008.
- Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе: очерки по исторической поэтике. // Вопросы литературы и эстетики. М.: Художественная литература, 1975. С. 234–407.
- Букарева Н. Ю. Проблематика и поэтика военной прозы Л. Д. Ржевского (Суражевского): автореф. дис. ... канд. филол. наук. Ярославль: Ярославский гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского, 2004.
- Восставшие из небытия: антология писателей Ди-Пи и второй эмиграции. М.: АИРО-XXI; СПб.: Алетейя, 2014.
- Герра Р. Мои встречи с выдающимися представителями «второй волны» эмиграции [Электронный ресурс] // Новый журнал [The New Review]. 2015. № 278. URL: https://magazines.gorky.media/nj/2015/278/moi-vstrechi-s-vydayushhimisya-predstavitelyami-vtoroj-volny-russkoj-emigraczii.html (дата обращения: 03.02.2023).
- Гордиенко Т. В. Россия в творчестве поэтов второй волны русской эмиграции (обзорные темы при подготовке к ЕГЭ) // Русская словесность. 2010. № 3. С. 40–44.
- Климов Г. П. Песнь победителя. Ростов-н/Д: Феникс, 1995.
- Коновалов А. А. Россия как вечная ценность в творчестве Л. Д. Ржевского // Культурное наследие России. 2019. №1. С. 44–48.
- Максимов С. С. Голубое молчание. М.: Книга по требованию, 2011.
- «Мы жили тогда на планете другой...»: антология поэзии русского зарубежья: 1920–1990 (первая и вторая волна): в 4 кн. / сост. Е. В. Витковский. М.: Московский рабочий, 1994–1997. Книга 4.
- Носова О. Е. Поэзия Игоря Чиннова: истоки, характер, эволюция трагического мироощущения: автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2004.
- Ржевский Л. Д. Двое на камне. Мюнхен: Товарищество Зарубежных Писателей, 1960.
- Ржевский Л. Д. Между двух звезд. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1953.
- Троицкий Н. А. Новеллы. Сан-Франциско: Глобус, 1983.
- Фесенко Т. П. Повесть кривых лет. Нью-Йорк: Новое Русское Слово, 1963.
- Филиппов Б. А. Избранное. Лондон: Overseas Publication Interchange Ltd, 1984.
- Ширяев Б. Н. Ди-Пи в Италии. Записка продавца кукол. Буэнос-Айрес: Наша страна, 1952.
- Юрасов В. И. Василий Теркин после войны. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1953.
- Юрасов В. И. Параллакс. Нью-Йорк: Новое Русское Слово, 1972.