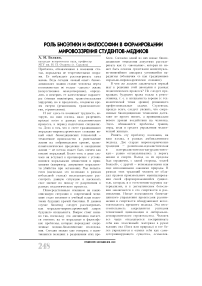Роль биоэтики и философии в формировании мировоззрения студентов-медиков
Автор: Белкин Алексей Иванович
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Дискуссионный клуб
Статья в выпуске: 1 (8), 2009 года.
Бесплатный доступ
Мировоззрение, философия, амбивалентный подход, этические стандарты, биоэтика
Короткий адрес: https://sciup.org/14720526
IDR: 14720526
Текст статьи Роль биоэтики и философии в формировании мировоззрения студентов-медиков
РОЛЬ БИОЭТИКИ И ФИЛОСОФИИ В ФОРМИРОВАНИИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ
А. И. Белкин, кандидат исторических наук, профессор МГУ им. Н. П. Огарева (г. Саранск) Проблема, обозначенная в названии статьи, порождена не теоретическими спорами. Ее побуждает рассматривать сама жизнь. Ведь сегодня «новый опыт» биомедицинского знания ставит человека перед возможностью не только «давать» жизнь (искусственное оплодотворение), определять и измерять ее качественные параметры (генная инженерия, транссексуальная хирургия), но и продлевать, отодвигая время смерти (реанимация, трансплантология, геронтология).
И вот здесь-то возникает трудность, которую, на наш взгляд, надо разрешить прежде всего в рамках педагогического процесса, в период подготовки специалиста. Дело в том, что в свете традиционного морально-мировоззренческого сознания новый опыт биомедицинских технологий — техногенное производство и уничтожение жизни на эмбриональном уровне, транс-плантологическое продление и завершение жизни —не всегда может быть оценен как вполне моральный. Более того, в ряде случаев он вступает в противоречие с устоявшимися моральными ценностями и принципами (например, допущение моральности убийства при эвтаназии). Мы попытаемся (насколько это возможно в рамках небольшой статьи) последовательно рассмотреть данную ситуацию и высказать свое мнение по поводу ее разрешения в рамках педагогического процесса.
Непосредственным откликом на вышеописанную ситуацию в современной медицине стало введение в учебный план подготовки будущих врачей биоэтики. В данном случае биоэтику следует рассматривать как морально-мировоззренческий запрос будущего специалиста. Вопрос стоит именно так, поскольку эта дисциплина пытается ответить на те моральные и философские проблемы, которые порождают современные медико-биологические исследования. Сегодня можно уже говорить о наметившихся позициях в разрешении этих про- блем. Согласно одной из них новые биомедицинские технологии допустимо рассматривать как ту «аномалию», которая не может быть освоена средствами концептуально-понятийного аппарата устоявшейся парадигмы (обозначим ее как традиционное морально-мировоззренческое сознание).
В чем же должен заключаться первый шаг в решении этой аномалии в рамках педагогического процесса? Не следует превращать будущего врача только в ремесленника, т. е. в специалиста хорошо (с технологической точки зрения) решающего профессиональные задачи. Студентам, прежде всего, следует уяснить, что современные биомедицинские технологии достигают не просто нового, а принципиально нового уровня воздействия на человека. Здесь обнажаются проблемы границ, меры, цели и средств управления человеческой жизнью.
Решить эту проблему возможно, на наш взгляд, в рамках амбивалентного подхода. Две старые мировоззренческие традиции — религиозно-идеалистическая и материалистически-натуралистичес-кая — равно останавливались у порога жизни и смерти. Выход за их пределы был ограничен, с одной стороны, «волей Божьей», с другой —непознаваемыми или еще непознанными законами природы. В рамках этих традиций человек не обладал правом произвольного манипулирования своей сформировыавшейся сущностью, которая, и в естественно-научном материализме, и в догматическом богословии заключается в его смертности и размножении. Новые возможности биомедицинского управления процессами размножения и смертности обнаруживают несостоятельность прежнего подхода. Эта несостоятельность закрепляется успехами техногенной цивилизации и либеральнодемократического строительства. Человек все чаще отказывается воспринимать себя как «пассивный» материал в руках высших сил (Бога или природы) и все более укрепляется в оценке себя как само-детерминирующего существа, осмыслен- ного творца своей жизни, самого себя. Все это характеристики антропоцентрической мировоззренческой парадигмы, в границах которой допустимо понимание биоэтики и философии как системы новых этических и мировоззренческих стандартов. Так, П. Сингер отмечает, что «биоэтика — это дисциплина, которая обсуждает ценность тех этических доктрин, которые зачастую окружены ореолом святости»1 Т. Энгельхарт полагает, что «сегодня проблема заключается в том, чтобы создать для решения биомедицинских проблем такую этику, которая обладала бы авторитетом рациональности и выступала от имени всего разнообразия точек зрения на мораль. Эта проблема приобретает сегодня особую актуальность, если иметь в виду крах многих традиционных ценнос-тей»2. Протестантская федерация Франции в 1987 г. констатировала, что «сегодня общество занято поиском биоэтики»3.
Обозначив противоречия между «старой» (онтоцентрической) и «новой» (антропоцентрической) парадигмами, далее в рамках учебного процесса следует попытаться смоделировать вариант «новой этики» или, как говорил Т. Кун, проработать «спекулятивную пробную гипотезу». При этом, конечно, следует исходить из тех стандартов, которые близки студентам-медикам.
Один из стандартов связан с реанимационной практикой. Совершенствование реанимационных методик (дыхательные аппараты, искусственная почка и др.) превратило умирание в длительный механизированный процесс. Исходя из этого перед студентами следует поставить в различных формах (ситуационные задачи, ролевые игры, сочинения и др.) принципиально новый для человека этический вопрос: кто в данной ситуации должен принимать решение о смерти —сам умирающий, врач или родственники? На наш взгляд, это поможет будущим специалистам осознать парадоксальность ситуации: действия, оцениваемые в традиционном моральном сознании как убийство или самоубийство, в новом технологическом пространстве медицины приобретают гуманный статус, определяемый одним из принципов биоэтики — «достойно жить, достойно умереть». Осмысление вышеозначенного парадокса необходимо для формирования у студентов представления о том, что наряду с традиционно здравоохранительной, у современной медицины появилась новая функция — смертеобеспечение. Эта функция прочно закрепляется развитием трансплантологии, ибо основным источником биоматериала — человеческих органов, подлежащих трансплантации, являются терминальные пациенты (от лат. «terminus» —конец, предел), кончина которых, продлеваемая во времени, должна быть специальным образом организована.
Здесь мы сталкиваемся с необходимостью следующего шага по осмыслению будущими врачами биоэтических норм. Этот шаг направлен на формирование правосознания. Разумеется, правосознание студенчества теснейшим образом связано с правосознанием всего российского общества. Применительно к новым медицинским технологиям ситуация складывается непростая. Ведь фактически существует купля-продажа донорских органов. И здесь (что, по нашему мнению, чрезвычайно опасно!) для формирования «нового этического стандарта» используется превращенная форма —«дарение своих органов».
Если «стандарты», связанные с трансплантацией донорских органов только пытаются сформировать, то право на уничтожение своего биоматериала (аборт), пожалуй, уже обрело искомый статус стандарта. Данную проблему опять же следует показать через противоречие. Суть его в следующем. В 20-х гг. XX в. в России начинается, а к 80-м гг. практически заканчивается «молчаливая революция» в общественном сознании: право на свободу выбора сохранять или не сохранять жизнь своего ребенка становится основным нормативным регулятором, обесценив и практически вытеснив норму «не убий». Понимание этого противоречия чрезвычайно важно для современного молодого поколения в свете того демографического кризиса, который сегодня переживает наша страна.
Но дело не только в этом. Еще одним важным шагом в осмыслении студентами-медиками биоэтических норм является осознание того, что обесценивание и вытеснение многих традиционных ценностей возможно и ожидаемо при условии неограни- ченного массового распространения методик искусственного оплодотворения. Здесь опять следует обратиться к ситуационным задачам, решение которых призвано подвести будущих врачей к мысли, что выход терапии бесплодия на уровень стандарта «асексуальное размножение» чреват деформацией биофизиологических связей, родственных человеческих взаимоотношений, что, в свою очередь, является одним из оснований нравственной культуры личности. В учебном процессе следует смоделировать различные ситуации, которые призваны показать, что в ближайшей перспективе в разряд этических стандартов под влиянием массового внедрения практик искусственного оплодотворения попадают не только неполные семьи, но и однополые браки, суррогатное материнство, которое академик РАМН Л. Бадалян назвал «биологической проституцией».
Транссексуальная хирургия — еще одно медицинское нововведение. Оно возникает как следствие широкого правозащитного движения, и, в частности, новых подходов к сексуальности человека. Прибегая к авторитету З. Фрейда, напомним, что сексуальность —сложный процесс, сопровождающий становление человека, который предполагает для каждого индивида переход от ощущения удовольствия от функционирования органов (у младенца) к разумному отношению к функции продолжения рода. «Функция либидо проделывает длительное развитие, прежде чем станет служить продолжению рода способом, называемым нормальным»4. Транссексуальная хирургия, которая, как правило, сопряжена с подавлением функции продолжения рода существует в режиме стандарта «анормальность».
Далее в поле нашего зрения попадает практика генетической диагностики. В связи с этим тоже возникает ряд непростых вопросов: что такое «здоровая наследственность», «хороший» или «плохой» ген; существует ли мера допустимых для общества аномалий? При рассмотрении этих проблем студентов необходимо подвести к мысли, что исследовательский интерес, связанный с обозначенными вопросами, не должен превратиться в основание генетической политики. Ведь известно, что ген- ные технологии называют «новым социальным оружием». Неотступной тенью генетических исследований являются евгенические программы. Обратив внимание будущих медиков на понятийный арсенал («коррекция естественного отбора», «генетическое наступление», искусственный отбор), следует поставить перед ними вопрос о социальных последствиях подобных действий. Из анализа социальных последствий становится понятно, что это еще одна возможность коррекции старых, традиционных моральных ценностей и норм.
Принцип «личного права» стал этическим стандартом для антипсихиатрического движения. В основе признания права пациентов на отказ от принудительной изоляции, госпитализации, определенных методик лежит признание права каждого человека на свой образ мира. На международном конгрессе «Психоанализ и современная наука» (Москва, 1992 г.) в одном из докладов анализировался психологический эксперимент, проведенный в ряде французских общеобразовательных школ. Превона-чальный опрос школьников (основной вопрос: «Чего вы больше всего боитесь?») дал весьма типичные результаты. Опрошенные указали, что это война, смерть родителей, землетрясение и т. п. Для повторного аналогичного опроса дополнительно подключались умственно отсталые дети с различного рода психическими отклонениями. В итоге первую позицию среди возможных фобий занял страх сойти с ума, оказаться навсегда погруженным в «свой образ мира» и потерять, таким образом, способность быть понятым и понимать других, реализуемую с помощью моральных норм5. Этот пример показывет, что последовательное применение этического стандарта «личное право» в отношении определенных категорий пациентов может обернуться реальным обесцениванием традиционных норм и нанести лишь вред этим пациентам.
Конечно, приведенные ситуации и варианты решения философских проблем в рамках курса философии и биомедицинской этики представлены в абстрактно-гипотетическом пределе. Но надо признать, что этот блок проблем из интеллектуальных экспериментов выходит на уровень общественного сознания. Это —моральность убийства, моральность отключения жизнеподдерживающей аппаратуры. Эти понятия работают на уровнях заголовков статей, телерепортажей, тем научных конференций. Сторонники эвтаназии объединяются в отдельные общественные движения; «смерть мозга» воспринимается уже не только как медицинский термин, но и как этическая санкция на исследование и использование человеческого биоматериала; технология деторождения, увы, превратилась сегодня в процветающий бизнес; право на свободу выбора используется как основание для оправдания абортов. К сожалению, это перечисление можно продолжить.
Эти понятия и в рамках учебного процесса и за его пределами, разумеется, мо-жено свести в систему. Проблема не в этом. Преподаватель медицинского вуза сталкивается с другой серьезной проблемой: могут ли эти понятия стать основанием «новой этики» будущего специалиста? На наш взгляд, решая эту проблему преподавателю следует исходить из антропоцентрической парадигмы. Для антропоцентрического сознания характерно удовлетворение естественных потребностей и прав человека даже, как это ни парадоксально, путем выхода из режима самой естественности. Речь идет об удовлетворении права рожать детей — даже когда эта способность не дана природой (Богом), продолжать жить —даже когда это право забирает природа, умереть безболезненно — вопреки природным процессам, изменить пол — вопреки природе, уничтожить жизнь —когда она даруется природой. Но тут же перед нами возникает еще один вопрос: к какому образу мира человеческих отношений может привести такая «этика», и в какой степени новая система стандартов будет действительно этикой?
В свое время Дж. Мур говорил о натуралистической ошибке в этике. Она заключается в сведении моральных ценностей к природно-психологической основе. Исходя из этого можно прийти к тому, что удовольствие является единственным добром, а все моральные ценности можно свести к праву иметь права. Тогда добром оказывается собственное право каждого человека на то или иное действие. А может ли быть добром право человека, например беременной женщины, уничтожить человеческую жизнь? В пространстве антропоцентрической парадигмы —может. Но в таком случае понятие «добро» вряд ли сможет выполнить функцию оценки как высшей точки отсчета для регулирования человеческих взаимоотношений. Лишаясь своей собственно нравственной определенности, оно неизбежно превращается в «право как преимущество». И вся этика, вслед за этим, сводится к подсчету, балансу преимуществ, прав, интересов, польз и т. п.5 Конечно, говоря о правах человека, можно обосновать преимущества одного индивидуума, например, право женщины на аборт перед правом человеческого эмбриона на жизнь. Но вряд ли это можно назвать этическим действием и найти в этом моральный смысл, особенно в контексте традиционного этического сознания.
В пространстве приведенных задач, проблемных ситуаций, рассуждений у студентов возникает понимание биоэтики как формы духовно-практической защиты жизни, а сам термин «биоэтика» —этика жизни —оказывается весьма информативным. В данном случае следует поставить перед студентами вопрос: какое понятие для биоэтики является базовым? Из самого термина очевидно, что это понятие «биологическое» в его широком смысле — как природное, естественное. Это общие природные закономерности существования живого, способность живого жить, где сама жизнь представляет собой, по выражению Биша, «совокупность функций, сопротивляющихся смерти»6. Но далее, работая над формированием представлений о соотношении этического и биологического, следует обратить внимание на то, что этическое в значительной степени определяется этой же природной закономерностью сохранения и развития жизни.
Каким образом это можно сделать? Попросить студентов подумать над смыслом самого понятия «этическое». Этот смысл — регуляция человеческих отношений со сверхзадачей сохранения жизни (человека, популяции, культуры), как считают различные мыслители и школы. Сегодня явно прослеживается серьезная озабоченность поведением человека. Н. Тин- берген по этому поводу пишет: «Научное понимание нашего повендения, ведущее к его контролю, —возможно, наиболее необходимая задача, стоящая перед человечеством сегодня. В нашем поведении имеются такие силы, которые начинают создавать опасность для выживания вида и, что еще хуже, для всей жизни на Земле»7.
В данном случае можно вспомнить и точку зрения З. Фрейда, который, разрабатывая свою метапсихологию, писал, что все завоевания культуры, и прежде всего моральные нормы, произошли из «необходимости защитить себя от подавляющей сверхмощи природы»8. Природа, одарившая нас влечениями — сексуальностью, жаждой убийства, каннибализма — «нас губит холодно, жестоко... как раз по случаю удовлетворения нами своих влечений. Именно из-за опасностей, которыми нам грозит природа, мы ведь объединились и создали культуру, которая, среди прочего, призвана сделать возможной нашу общественную жизнь»9. Таким образом, по Фрейду получается, что этическое явилось своеобразной формой защиты от разрушительных начал природно-биологического.
Следующий вопрос, который преподаватель ставит перед студентами, рассматривая проблему соотношения этического и биологического: актуальна ли в настоящее время позиция З. Фрейда? Развитие человеческой цивилизации в настоящее время привело к тому, что этическое вынуждено стать и становится формой защиты природно-биологического от чрезмерных притязаний культуры к своим естественно-природным основаниям. Исходя из этого, мы приближаемся к пониманию задач самой биоэтики, которая возникает уже из потребности защитить природу от «подавляющей сверхмощи» культуры в лице ее крайних антропоцентристских форм. Но следует предвидеть случаи (и они были в педагогической практике), когда студенты в ответ на такую постановку вопроса возражали: а не является ли это дискриминацией науки, ее подавлением, насильственным ограничением ее возможностей.
В случае, если дискуссия разворачивается именно в таком направлении следует показать, что речь идет не о защите от биомедицинских технологий самих по себе. Сторонников такого понимания биоэтики нельзя относить к тому типу людей, которые в свое время требовали «сожжения первых врачей, анатомов, дерзающих раскрыть тайну Божьего созданья»10. «Опасна не техника сама по себе, —полагал М. Хайдеггер. — Подлинная угроза уже подступила к человеку в самом его существе»11. Это угроза — от нас самих, от свободы своего правосознания, от своей «бездомности», безосновности существования, от забвения своей собственной естественности, которая определяла норморегулирующее положение нравственных ценностей в онтоцентрической традиции. Так, например, в православном богословии нравственный закон определяется как естественный. Это не случайная и внешняя характеристика. К. Тертуллиан говорит о его высеченности на скрижалях нашей природы. Все совершенное против природы должно быть осуждено среди людей12. Истолковывая максиму «грех есть беззаконие», П. Флоренский писал: «Грех —это извращение Закона, т. е. того порядка, который дан твари Господом, того внутреннего Строя всего творения, которым живо оно, того строения недр твари, которое даровано ей Богом, той Премудрости, в которой смысл мира»13. Глубокая бытийственность, жизненность принципов христианской нравственности, их детерминированность «сопротивлением смерти» побуждает нас вновь учиться традиции, видеть в ней не косное, чуждое, далекое образование, а «первичную реальность человека»14.
Прибегая к авторитету Т. Куна, напомним, что кризисная ситуация как вполне нормальное состояние развивающегося сознания, может завершиться не только «крупномасштабной сменой парадигм», но и благополучным усвоением старой парадигмой нового опыта.
К огромному сожалению само состояние нашего общества не способствует быстрому освоению философии и биоэтики. Исходя из этого, актуальнейшей задачей философского и биоэтического знания в России является предотвращение опасных последствий нравственной «стерильности». В России фактически существует культ денег как единственное средство построения демократического общества. Рычаги нравственного воздействия на студенчество, да и на общество в целом, оказались серьезно заблокированными. Не в результате ли этого в России сейчас разрастаются три серьезнейшие эпидемии? Одна из них — алкоголизация населения, вторая — наркотизация, и третья — падение нравственности. И вот на фоне этого студентам предлагается усвоить ценности и нормы философии и биоэтики. Исходя из этого актуальнейшей задачей философского и биоэтического знания в России является предотвращение опасных последствий нравственной «стерильности».
Итак, проблема соотнесения биоэти-ческих норм с мировоззренческими традициями в процессе преподавания философии и биоэтики не является надуманной. Она реально возникает в образовательновоспитательном процессе в медицинском вузе перед каждым преподавателем, независимо от того преподает ли он социально-гуманитарные или профильные дисциплины.
Но наличие проблемы предполагает ее решение. И в модели специалиста-медика в рамках компетентностного подхода мы в настоящее время не можем игнорировать требование о формировании биоэтических норм. Специалист, не знакомый с ними, не в состоянии осуществлять свою профессиональную деятельность в современной медицине. И здесь неизбежно возникает вопрос —как.
Поэтому на страницах статьи мы постарались показать ту дилемму, перед ко- торой, в конечном итоге, оказывается каждый преподаватель: либо преред лицом сегодняшней суровой реальности старые ценности и моральные нормы должны быть отброшены, либо их следует сохранить, соотнося с теми задачами, которые в настоящее время стоят и перед медициной и перед нашим обществом в целом.
Важным средством решения этих противоречий является, на наш взгляд, не навязывание преподавателем своей точки зрения студентам, а анализ ряда проблемных ситуаций. Полагаем, что эти действия преподавателя помогут будущим врачам осознать необходимость реализации традиционных ценностей в своей профессиональной деятельности. Это первоочередная задача. И кроме того, важно сформировать убеждение, что потребности чисто биологического медицинского характера никогда не должны существовать изолированно от традиционных этических ценностей.
Соотнося философию и биоэтику с традиционными нормами, мы отметили, что их сердцевиной признается защита человека от возможного негативного воздействия медицины и биологии, а инструментом такой защиты признаются нравственные ценности. Именно поэтому философия и биоэтика должны быть фундаментом врачебного мировоззрения. Это означает, что на основе их норм должны формироваться профессиональные знания и умения. И именно это обстоятельство превращает философские дисциплины в системообразующий фактор врачебного мировоззрения.
4 Фрейд 3. Введение в психоанализ / 3. Фрейд. М., 1989. С. 216.
5 Биоэтика: принципы, правила, проблемы... С. 331.
6Цит. по: Биология / под ред. В. Н. Ярыгина. М., 1985. С. 14.
7 Биоэтика: принципы, правила, проблемы... С. 333.
8 Сумерки богов. М., 1989. С. 110.
9Там же. С. 104.
10Человек читающий. М., 1989. С. 57.
11 Хайдеггер М. Бытие и время / М. Хайдеггер. М., 1993.
12 О Вере и нравственности по учению Православной Церкви. М., 1991. С. 326.
13Там же. С. 326.
14Восток —Запад. М., 1988. С. 33.
Список литературы Роль биоэтики и философии в формировании мировоззрения студентов-медиков
- Проблемы биоэтики. -М., 1993. С. 143
- Биоэтика: принципы, правила, проблемы. -М., 1988. С. 329
- Медицина и права человека. -М., 1992. С. 42.
- Фрейд З. Введение в психоанализ. Лекции. -М., 1989. С. 216.
- Биоэтика: принципы, правила, проблемы. -М., 1998. С. 331.
- Биология. Под ред. В.Н. Ярыгина. -М., 1985. С. 14.
- Биоэтика: принципы, правила, проблемы. -М., 1998. С. 333.
- Сумерки богов. -М., 1989. С. 110.
- Человек читающий. -М., 1989. С. 57.
- Хайдеггер М. Бытие и время. -М., 1993.
- Вере и нравственности по учению Православной Церкви. -М., 1991. С. 326.
- Вере и нравственности по учению Православной Церкви. -М., 1991. С. 326.