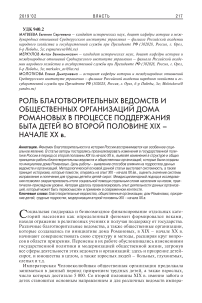Роль благотворительных ведомств и общественных организаций дома Романовых в процессе поддержания быта детей во второй половине XIX - начале XX в
Автор: Матвеева Евгения Сергеевна, Меркулов Антон Вениаминович, Молоткова Елена Дмитриевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 2, 2019 года.
Бесплатный доступ
Феномен благотворительности в истории России воспринимается как особенное социальное явление. В статье авторы постарались проанализировать изменения в государственной политике России в период со второй половины XIX по начало XX в., выявляя изменения в структуре и общих принципах работы благотворительных ведомств и общественных организаций, которые были созданы по инициативе дома Романовых. Цель работы - выявление способов влияния на подростков данных ведомств и организаций. Методологической основой данной статьи выступает системность, а также принцип историзма, которые помогли, опираясь на опыт XIX - начала XX вв., оценить значение системы исправления и попечения для трудных детей и детей-сирот. Междисциплинарный подход в исследовании позволил охарактеризовать итоги социальной помощи отдельным слоям населения на новом, практически-прикладном уровне. Авторам удалось проанализировать опыт деятельности данных организаций, который может быть переосмыслен и применен в современном контексте.
Благотворительные ведомства, общественные организации, дом романовых, призрение детей, трудные подростки, модернизация второй половины xix - начала xx вв
Короткий адрес: https://sciup.org/170170905
IDR: 170170905 | УДК: 940.2 | DOI: 10.31171/vlast.v27i2.6354
Текст научной статьи Роль благотворительных ведомств и общественных организаций дома Романовых в процессе поддержания быта детей во второй половине XIX - начале XX в
С оциальная поддержка и безвозмездное финансирование отдельных категорий населения как определенный феномен формировался веками, находя отражение в религиозных учениях и получая поддержку от государства. Различные благотворительные ведомства, а также общественные организации, которые создавались по инициативе дома Романовых, в XIX – начале XX в. начинают совершенствовать свою структуру и методы, расширяя круг вопросов в области призрения. Перемены в их работе обусловливались изменениями государственной политики и модернизацией общественной жизни, затронув все сферы деятельности этих ведомств и организаций: здесь и призрение детей-сирот, и юношества в целом, а также взрослых людей – больных, глухонемых, слепых и т.д.
Императорская Человеколюбивая общественная организация продолжала заниматься в данный период призрением трудных детей, а также взрослых, число которых достигало 5 000. Со второй половины XIX в. именно забота о детях становится основным направлением и для различных ведомств импера- трицы Марии Федоровны, которые начали свою работу еще с 1797 г. и ежегодно принимали на полное попечение несколько сотен лиц. Это были богадельни и больницы, сиротские приюты и институты благородных девиц, разные гимназии, приюты, школы, а также всяческие заведения для слепых и глухонемых. После ухода из жизни основательницы их общее число составляло 34. На основании официальных данных воспитательные дома в Московском и Санкт-Петербургском округах на рубеже веков насчитывали более 60 000 питомцев, а в приютах ведомств императрицы Марии числилось около 15 000 тыс. приходящих или же постоянно живущих детей1. В женских институтах обучались около 8 000 девушек, а гимназии принимали более 10 000 чел. Патриотическое общество контролировало более 3 000 чел.2 Московское Елисаветинское благотворительное общество, а также Московское благотворительное общество 1837 года и Дамское попечительство о бедных имело в ведении несколько сотен детей. Если подвести итог по средним сведениям за XIX – начало XX в., в России различные учреждения и общественные организации оказывали различную помощь более 100 000 детей и более 30 000 взрослых.
Представители дома Романовых с самого начала нахождения у власти отличались активным участием именно в благотворительном сегменте. Они финансировали постоянно живущих русских монахов в Новом Афоне, посещали заключенных, предоставляя им одежду и продукты. Особое внимание уделялось детям и больным – именно эта категория лиц находилась под их постоянным попечительством. При Екатерине I были заложены основы всей благотворительности дома Романовых, которая получила широкое распространение в XIX–XX вв. Первоначально учреждения и общества показательно демонстрировали заботу монаршей власти о подданных и существовали за счет или же самой императрицы, или же при содействии других первых лиц императорского дома. Особое положение было у таких благотворительных ведомств, которым присваивался государственный статус при исключении их из общей государственной системы органов [Кадневский 2016: 23, 25]. В XIX в. значительная роль в финансировании отводилась казенным субсидиям, а также частным средствам и пожертвованиям. Также в XIX в. важным источником финансирования было взимание 10% сборов со всех увеселений, в т.ч. и театров. Существовала государственная карточная монополия, т.е. обложение сборами всех колод карт русского и заграничного производства. В качестве важного экономического показателя можно врассматривать общую стоимость и объем всей недвижимости, которая принадлежала благотворительным обществам и заведениям в тот период3. Некоторые дворяне или же обеспеченные купцы могли передавать средства на строительство конкретного приюта или же выделять суммы на их содержание, а также могли передавать личные владения (земельные участки, усадьбы или же сельские дома, иногда сразу с крестьянами) для прямого использования в благотворительных целях или же сдавать их, передавая доходы на их нужды [Ульянова 2008]. Передача имущества обычно проходила спокойно, но иногда наследники пытались оспорить право на владение дорогостоящим имуществом. Итак, в целом на полное содержание в приюты ежегодно переходили несколько сотен просто детей и детей-сирот, которым в среднем было от 4 до
14 лет. К началу XX в. всего по России насчитывалось около 428 детских приютов с численностью питомцев около 100 000.
Начиная с середины XIX в. начинаются серьезные преобразования всех учреждений, находившихся в призрении Ведомства императрицы Марии Федоровны. Общего плана модернизации не было, как отсутствовало и понимание о единой системе государственной социальной политики [Хитров 2006: 45]. Разрозненные изменения соответствовали месту этих заведений в иерархии, типу учреждения и проблемам, с которыми им приходилось сталкиваться.
Воспитательные дома – это единственные и уникальные в своем роде учреждения, демонстрировавшие заботу самодержавия о беспомощных и незащищенных подданных. Они в первую очередь боролись за снижение смертности среди младенцев, которая ежегодно составляла около 19% общего числа принятых детей. За счет улучшения медицинского обслуживания на рубеже веков были достигнуты положительные результаты: так, С.Э. Термен приводит уже цифру 14–15% [Термен 1912: 83]. Однако эти результаты относились к центральной части России, а в провинции все оставалось по-старому. В 1888 г. Александр III лично отметил необходимость решения данной проблемы. Была создана комиссия по реорганизации воспитательных домов во главе с почетнейшим опекуном В.А. Нейгардтом. Комиссия приняла решение, что дети будут приниматься только с реальными сопроводительными документами, и усилила ответственность за ложные данные о ребенке и направление в воспитательные дома лиц законнорожденных под видом незаконных [Соколов, Зимин 2015: 475]. Для ознакомления более широких масс с Правилами о приеме младенцев в императорские Московский и Санкт-Петербургский воспитательные дома и о возврате принятых детей было решено печатать их и в официальных изданиях, а также отдельными книгами. Данные Правила практически вдвое сократили тайный ежегодный прием детей. Статистический комитет МВД к концу XIX в. подвел итоги за предыдущие десятилетия по 50 губерниям Европейской части России и установил, что ежегодно рождалось около 4 000 000 младенцев, из которых более 100 000 являлись незаконнорожденными. К началу XX в. начинает прослеживаться более демократическое отношение к данной категории детей [Селютина 2015: 65], но воспитательные дома принимали по Правилам только половину детей, что, соответственно, не удовлетворяло потребности населения в призрении незаконнорожденных детей и в столицах, и в сельской местности. Воспитательные дома и государство в целом не стремились расширять сферу своей деятельности и охватывать призрением большее число детей. Напротив, требования приема детей усложнялись, и Правила были неизменными до 1917 г.
Далее начали менять состав всех подразделений воспитательных домов. К началу XX в. значительно увеличилось число школ для питомцев в сельских округах. В каждой губернии было от 50 до 100 таких школ. В целом по России в них содержались более 50 000 детей возрастом от 4 до 10 лет1. Положения о сельских школах в течение XIX в. несколько раз менялись; самые крупные изменения были осуществлены в 1881 и 1897 гг. В результате дополнений уже к началу XX в. рациональным считалось размещение в них и крестьянских детей. Положение обо всех сельских школах и библиотеках с приютами императорского Санкт-Петербургского воспитательного дома закрепляло наличие сельских школ только в тех местах, где было достаточное число детей (не меньше 15 и не больше 40) [Гребенкин и др. 2016], поэтому строи- лись они сразу на несколько населенных пунктов. В зависимости от наличия обучающихся школы могли закрываться или вновь открываться. Не менее 4 лет должно составлять обучение воспитанников в русских деревнях и 5 лет – выходцев из немецких или «чухонских», ингерманландских или финских деревень. А школах изучались русский язык, чтение, закон Божий, арифметика и краткие данные по истории и географии России. Некоторые местные жители могли допускаться к обучению платно. Сельские школы могли принимать детей на временное призрение, когда их родители были заняты работами. В дополнение к образовательному процессу предполагалось и создание библиотек из книг, доступных для народного понимания1. Таким образом, широкое распространение школ для питомцев в сельских округах к началу XX в. в значительной степени способствовало просвещению населения и призрению детей из крестьянских семей. Но ночлег, питание и предоставление им одежды требовало дополнительных расходов, которые не предусматривались этими учреждениями.
Дополнительные расходы воспитательных домов могли частично компенсироваться и благотворительными общественными организациями, такими, например, как Общество в попечении питомцев Санкт-Петербургского воспитательного дома; Общество в попечении проживавших по деревням в районе Балтийской железной дороги; Общество в попечении жившим по линии у Николаевской железной дороги и др. Эти организации и общества действовали по собственным уставам, были независимыми от управления воспитательных домов, но входили в общую структуру Ведомства дома Романовых. По своим личным убеждениям через единовременные пожертвования или ежегодные взносы они могли помогать в устроении приютов, богаделен, больниц, профессиональных школ и мастерских. Они могли способствовать усыновлению детей и помогали с приобретением оседлого занятия, обеспечивающего им будущ-ность2. В зависимости от степени вмешательства в деятельность общественной организации существовали разные категории членства: а) почетные члены общества, б) непременные члены, в) действительные члены, г) члены-сотрудники и др. По данным на начало XX в., ежегодно данные благотворительные общественные организации предоставляли различное имущество, продукты или денежные взносы.
Учебная часть учреждений ведала организацией обучения в школах и приютах. Основное направление реорганизации учреждений затронуло именно личный состав и их профессиональную подготовку. К началу XX в. основная часть педагогических кадров проходила подготовку при учительской семинарии принца Петра Ольденбургского, находящейся в Павловске. Учебный план расширялся такими дисциплинами, как садоводство, гигиена человека и др. Учителя после 10 лет беспорочной работы могли претендовать на звание личного почетного гражданина, а после 20 лет – и потомственного почетного гражданина. В школах поддерживался принцип, заложенный еще при Марии Федоровне: из детей готовили добрых духом людей «простого звания», которые могли добиться для себя и своих детей чего-то большего.
Увеличилось и число обучающихся в училище нянь для воспитательных домов. Это были выпускницы сельских школ от 15 до 18 лет, а основной уклон делался на обучение их первоначальным медицинским навыкам. Обучение длилось 4 года. Кроме общей программы, они изучали анатомию, физиологию, особенности ухода за детьми, педагогику, имели возможность практиковаться в детских садах при училищах. Выпускницы чаще всего трудоустраивались в учреждения Марии Федоровны, но могли работать и в частных домах [Соколов, Зимин 2015: 485]. Можно отметить, что структура учреждений была настолько хорошо продумана, что бывшие питомцы постепенно могли получить образование и в дальнейшем – работу в тех же структурах, повысив свой социальный статус.
Далее можно отметить требования по отношению к самим воспитанникам, которые постепенно изменялись и дополнялись на протяжении всего XIX столетия. К началу XX в. окончательно сложились порядок приема и правила воспитания и обучения детей. Существовали отдельные дома по призрению внебрачных и законных детей, а также малолетних сирот. В зависимости от возраста их в дальнейшем могли направить на обучение, перевоспитание, приобретение профессии; в целом, на полном попечении они могли находиться до 21 года. Бывали ситуации, когда после грудного отделения младенцев перераспределяли для дальнейшей социализации в крестьянские семьи в 36 сельских округах России. Таким образом, продуманная система, профессиональный опыт и достаточный потенциал этих учреждений способствовали становлению их как специфических учебно-методических центов на пути к созданию общегосударственной системы призрения детей, необходимость в которой была очевидна.
Детские приюты – еще одно направление в Ведомстве императрицы Марии, получившее широкое распространение с 30-х гг. XIX в. и длительное время улучшавшее свою структуру и деятельность, а также правила и методы призрения. Первоначально они принимали детей с 5–8 до 14–16 лет, у которых были бедные родители, и только для нахождения в дневное время. В порядке расширения деятельности они в дальнейшем стали принимать сирот и совсем маленьких детей в приют-ясли для снижения смертности в наиболее нежном детском возрасте [Куницкий 1899: 47]. В соответствии с Положением о детских приютах, действовавшим с 1839 г., общим органом их управления признавался Комитет главного попечительства; в столицах они подчинялись советам, а в губерниях – попечительствам. Именно здесь и проявлялась региональная специфика [Селютина 2014: 331], основанная на личных качествах руководителей попечительств, общей ситуации в стране и уровне среднего дохода по региону.
Положение не изменилось и во второй половине XIX в. Работа приютов не была модернизирована, поэтому параллельно начали работу земства и общественные управления, которые частично могли им помогать. Однако несовершенное законодательство тормозило их взаимодействие. Положение начало меняться с 1891 г., с принятием новых Положений. Основной целью приютов теперь становится призрение детей любого происхождения, возраста, пола и вероисповедания. Призрение могло быть дневным или же с полным содержанием питомца для дальнейшего получения первоначального образования и религиозно-нравственного воспитания. Контролировал работу приютов губернатор, который являлся председателем губернского или же областного попечительства, в некоторых случаях – начальник области, что подчеркивало их государственное значение. Таким образом, можно отметить, что на местном уровне в состав благотворительных ведомств под покровительством императорской фамилии входили не просто обычные представители общественности, но и руководство, хотя к большинству из них самодержавие относилось с неприязнью и подозрением. Многие должностные вопросы решались по финансовым показателям, хотя у организаторов в данном вопросе была гибкая политика. Благотворители должны были ежегодно вносить в кассы обще- ственных организаций «установленные суммы», крупные единовременные выплаты или же оказывать помощь другими услугами. Существовали еще и выплаты различных сумм от опекунских советов, фиксированные пособия от государственного казначейства, единовременные пожертвования лиц, церковные кружечные сборы, доходы от различных благотворительных мероприятий и недвижимости, а также фиксированные пособия от городских и земских учреждений. С момента обновления законодательства постепенно стало увеличиваться как число общественных организаций, так и число приютов. Ежегодно число питомцев этих заведений возрастало примерно на 1 000 чел., что вызывало необходимость уточнения системы управления ими и увеличения средств на содержание. Ввиду этого с 1898 г. была восстановлена деятельность Комитета по главному попечительству, основной задачей которого становится изыскание новых источников доходов, способов и методов поддержания, развития и улучшения приютов в России, а также открытие новых заведений со схожими целями. Именно Комитет должен был продумать новую организацию правильной и максимально плодотворной деятельности по призрению, обучению, воспитанию и исправлению неимущих детей. Для ознакомления с целями и особенностями работы приютов, а также для включения общественности в обсуждение сложных общественных вопросов при финансировании домом Романовых выпускались брошюры, памятки и даже всероссийский периодический журнал «Вестник благотворительности» (1897–1902 гг.), главным редактором которого был историк и историограф Ведомств императрицы Марии Федоровны Е.С. Шумигорский. Кроме этого, издавались еще и отчеты о деятельности попечительств, которые самым ярким образом популяризировали деятельность приютов и демонстрировали заботу самодержавия о своих подданных. К началу XX в. особенно широко использовались средства, собранные посредством кружечных сборов. Столичные советы по детским приютам и попечительствам выставляли кружки: так, по особому договору с Министерством путей сообщения все московские железнодорожные станции и пристани приняли около 3 000 кружек на исполнение. Еще одним инструментом изыскания денег было издание и распространение благотворительных писем и т.д.
Таким образом, проводя анализ, авторы выявили достаточно большое число источников, в которых проводились попытки обобщения вопросов благотворительности. Рассматривая благотворительность в отношении детей как особый феномен в отечественной истории, авторы постарались определить его как важное социальное явление, особенно в XIX – начале XX в. Одними из первых данными вопросами стали заниматься представители дома Романовых, которые уже к началу XIX в. организовали работу более 30 различных благотворительных заведений и общественных организаций. Во второй половине XIX – начале XX в. начинаются процессы общей модернизации данного направления. Появляется больше мест для попечения детей, обновляется нормативная правовая база, расширяется круг лиц, получающих поддержку от этих учреждений, дополняется возрастной диапазон лиц, оттачиваются учебные программы и методы воздействия на социально незащищенную часть населения. В этот период особенно большая работа была проделана в области популяризации таких способов и методов помощи. В различных печатных изданиях раскрывалась суть социальной поддержки, где особое внимание уделялось уникальной роли личности самого мецената как в масштабах всего российского государства, так и границах отдельного региона. Новые региональные документы являются ценными источниками уточнения данных по стране в целом. А полная и целостная теоретико-правовая концепция добровольчества в современной
России крайне востребована в свете ведущихся общественно-политических и правовых дискуссий.
Список литературы Роль благотворительных ведомств и общественных организаций дома Романовых в процессе поддержания быта детей во второй половине XIX - начале XX в
- Гребенкин А.Н., Елисеев А.Л., Матвеева Е.С., Селютина Е.Н., Холодов В.А. 2016. Государственно-правовая защита детства в России: исторические аспекты: монография (под общ. ред. П.А. Меркулова). Орел: Изд-во ОФ РАНХиГС. 160 с
- Кадневский В.М. 2016. Благотворительность дома Романовых как сегмент государственной социальной политики (к постановке вопроса). - Вестник Омского университета. Сер. Исторические науки. № 2(10). С. 22-28
- Куницкий В. 1899. Приюты-ясли для крестьянских детей. - Вестник благотворительности. № 5-6. С. 47-58
- Соколов А.Р., Зимин И.В. 2015. Благотворительность семьи дома Романовых. XIX - начало XX века. Повседневная жизнь российского императорского двора. М.: Центрполиграф. 604 с
- Термен С.Э. 1912. Призрение несчастнорожденных в России. СПб.: Типография Ю. Мансфельд. 245 с
- Ульянова Г.Н. 2008. Материальные ресурсы российской благотворительности: недвижимая собственность Ведомства учреждений Императрицы Марии Федоровны и Императорского Человеколюбивого общества (XIX - начало XX века). - Благотворительность в истории России: новые документы и исследования (под ред. Л.А. Булгаковой). СПб.: Нестор-История. С. 245-263
- Хитров А.А. 2006. Ведомство учреждений Императрицы Марии в Санкт-Петербурге и Петербургской губернии. - Вестник РГУ им. Канта. Вып. 12. Гуманитарные науки. С. 45-51