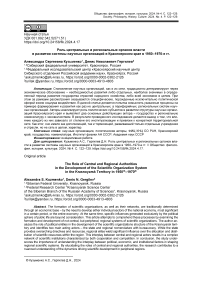Роль центральных и региональных органов власти в развитии системы научных организаций в Красноярском крае в 1950-1970-е гг
Автор: Кузьменко А.С., Гергилев Д.Н.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 4, 2024 года.
Бесплатный доступ
Становление научных организаций, как и их сети, традиционно детерминируют через экономическое обоснование - необходимостью развития либо отдельных, наиболее значимых в определенный период развития государства отраслей народного хозяйства, либо всей экономики в целом. При этом за рамками рассмотрения оказываются специфические, порожденные исключительно политической сферой жизни социума воздействия. В данной статье делается попытка осмыслить указанные процессы на примере формирования и развития как раз не центральных, а периферийных, региональных систем научных организаций. Авторы анализируют роль политических субъектов в развитии структуры научных организаций Красноярского края и выявляют два основных действующих актора - государство и региональную номенклатуру с чиновничеством. В результате проведенного исследования делается вывод о том, что влияние каждого из них зависело от степени его институализации и привязки к конкретной территориальной сети. Как итог, оно имело как дополняющий, так и тормозящий, развивавший только отдельные учреждения и отрасли, но не сеть в целом, характер.
Научные организации, политические акторы, фиц кнц со ран, красноярский край, государство, номенклатура, институт физики ан ссср, академия наук ссср
Короткий адрес: https://sciup.org/149145002
IDR: 149145002 | УДК: 001.892:342.5(571.51) | DOI: 10.24158/fik.2024.4.17
Текст научной статьи Роль центральных и региональных органов власти в развитии системы научных организаций в Красноярском крае в 1950-1970-е гг
Сибирского отделения Российской академии наук», Красноярск, Россия , 2turilak ,
of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences”, Krasnoyarsk, Russia , ,
Сегодня научный потенциал общества является одним из важнейших ресурсов для любого государства как крупного политического актора. Производство и манипулирование знанием фактически входят в список его наиболее актуальных задач, обеспечивая ресурсную базу во всех сферах жизнедеятельности и перспективы дальнейшего существования государства как самостоятельной единицы.
На этой волне особенно ценным становится изучение закономерностей становления и развития систем научных организаций в странах, находящихся на разных стадиях транзитологических переходов. Для современной России исследования в этой области оказываются востребованы как научным, так и публичным сообществом.
При этом необходимо отметить, что сегодня довольно актуальным являются региональные работы, посвященные историям формирования научных систем на отдельных территориях государства. Они не только позволяют выявить общие и специфические черты исследовательских институтов «на местах», но и дать ответ на вопрос о существовании единой научной системы в пространстве всей страны и особенностях ее функционирования.
Красноярский край в данном контексте можно рассматривать в качестве территории, типичной для субъектов российского политического пространства, а также как регион, обладающий геостратегическим положением, которое постоянно привлекает особое внимание со стороны института государства. Изучение роли политических субъектов в становлении системы научных организаций на его территории поможет раскрыть основные закономерности и выявить действующих акторов в указанном процессе.
Значимость исследуемой проблемы обусловила интерес к ней со стороны представителей научного сообщества. Однако изучение ее велось в рамках традиционного подхода к институциональной истории (Кольцов, 1988; Артемов, 1990; Артемьева и др., 2022; Куперштох, 2017; Павлю-кевич, 2014; Дворецкая и др., 2022), и, как правило, осуществлялось через рассмотрение государственной политики в этой сфере. Затрагивались вопросы создания научных центров на востоке страны. Фактически предметом исследования становились сами научные организации как субъекты экономики и объекты политики. Обратное влияние осталось неизученным. Более того, за рамками исследовательского внимания оказались все политические субъекты (за исключением частично государства), воздействовавшие на формирование научной региональной системы.
Это позволяет нам принять в качестве цели данной работы изучение роли таких политических субъектов в развитии структуры научных организаций Красноярского края.
Источниковую базу работы составили делопроизводственные документы архива Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» (ФИЦ КНЦ СО РАН). Они позволили определить не только набор акторов, вовлекавших научные организации, расположенные на территории Красноярского края, в сеть политического взаимодействия, но также характер связи внутри данного объединения.
Также к исследованию были привлечены нормативно-правовые источники, раскрывшие особенности научной политики как на общегосударственном, так и на региональном уровне.
Исследование основано на акторно-сетевом подходе, применение которого позволило выявить групповые и индивидуальные элементы системы, связывавшей науку и политику, а также определить характер и степень их взаимного влияния. При этом необходимо отдельно отметить, что в задачи работы не входила характеристика самой сети научных акторов, предполагался лишь анализ степени влияния нескольких ее составляющих, так как для реализации подобного исследования объема статьи недостаточно.
В методологическую инструментальную базу также вошли историко-генетический метод и метод системного анализа.
Первые исследовательские организации на территории Енисейского региона стали возникать в XIX столетии. Их формирование шло по двум основным линиям. Одна из них была связана с общественными инициативами. Научные исследования в Сибири проводились силами высших учебных заведений и ряда общественных организаций, чья деятельность лежала в области просвещения. Наука для учреждений данных типов была неотделима от их основной цели функционирования – образования. Просветительская база накладывала отпечаток как на тематику исследований, так и на структуру самих организаций. Поэтому, например, сложно обнаружить по- следовательность в направлениях научных изысканий отдельных индивидуумов и научных коллективов, школ. Они формировались, скорее, под влиянием конкретных обстоятельств – появление в регионе ссыльного ученого со своими научными приоритетами – и интереса общества к познанию территории, на которой оно обитало.
Организации данного типа не являлись научными институтами. Однако именно на их основе начали формироваться локальные исследовательские сети.
Другая линия развития такого рода структур была представлена государственными институтами. Регион как часть неосвоенного внутреннего ресурса находился под пристальным вниманием центральных научных организаций, возникших некогда по инициативе государства. Среди таковых ведущую роль играло Императорское географическое общество.
Данная линия характеризовалась более четкими контурами институтов, концентрацией направлений исследований, в отличие от разрозненных и более гибких в своих направлениях деятельности просветительских организаций. Также вместо локальной краеведческой повестки учреждения, возникавшие под эгидой или напрямую по заказу государства, нацеливали исследовательский план на решение всероссийских задач, что отражалось на структуре самих научных организаций.
Учитывая тот факт, что Сибирь рассматривалась центральной властью преимущественно в качестве источника материалов, а не производительных сил (то есть человеческого капитала, в том числе интеллектуального), задачи, лежавшие в основе деятельности таких структур, носили ярко выраженный экономический характер. Примером здесь может служить Общество исследования Сибири и её производительных сил, созданное для координации научных исследований в 1924 г. Согласно В.Г. Кокоулину, изначально функционировавшее на довольно скромные средства из бюджета Главного управления научными, научно-художественными и музейными учреждениями и членские взносы, оно затем было полностью взято на государственный бюджет1.
Такие базовые суждения, лежавшие в основе научной политики государства как актора в отношении сибирского региона, способствовали крайне малому распространению академических научных институтов на данной территории. Центральный аппарат просто не видел рентабельности в создании и развитии сети научных организаций на территории Сибири и Дальнего Востока. Фактически трех отделений, по мнению данного политического субъекта, было достаточно для обширной, но слабо заселенной территории.
Енисейский регион, обладавший ко всему прочему особым геостратегическим положением, с точки зрения государства, являлся, скорее, местом внедрения в производство результатов труда научных коллективов, находившихся в областях непосредственно контролируемого исторического центра России. Создание научных структур на его земле рассматривалось как неэффективное расходование ресурсов – работа исследовательских организаций требовала соответствующих кадров, которых и в центре было крайне ограниченное количество.
В результате идеи создания на территории Приенисейской Сибири (с 1934 г. – Красноярского края) специализированных научных институтов не находили поддержки у государства. Поле должно было оставаться полем, цехами заводов, дающими материальный ресурс, а не местом производства интеллектуального капитала.
Великая Отечественная война заставила государство переосмыслить место и возможную роль края в стратегии развития страны. Кроме ресурсной кладовой, регион стал рассматриваться в качестве резервной территории, в том числе и в отношении человеческого и интеллектуального капитала.
В результате в середине 1950-х гг. для Красноярского края стало возможным создание академических научных институтов. 12 октября 1956 г. постановление Президиума АН СССР № 558 предписывало «в целях содействия развитию производительных сил восточных районов СССР организовать в Красноярске Институт физики АН СССР»2. В 1959 г. сюда из Москвы был перебазирован Институт леса и древесины (постановление Президиума АН СССР № 754 от 12 декабря 1958 г.3).
Сырьевая профилизация новых возникших структур подтверждает сказанное выше. Так, Институт леса лишь закрепил свое головное положение в системе АН СССР в области лесных наук, поскольку фактически оказался в регионе, одной из ведущих отраслей экономики в котором была деревообрабатывающая. Неслучайно первым высшим учебным заведением в городе стал именно Сибирский лесной институт, созданный в 1930 г. на базе лесного факультета Сибирского института сельского хозяйства и лесоводства города Омска.
Для государственного политического игрока данных элементов научной сети было вполне достаточно. Поэтому вплоть до середины 1970-х гг. новые академические организации в Красноярске не создавались. Обращения со стороны уже существующих институтов и исследовательского сообщества оставались без положительного ответа.
При этом шло интенсивное развитие двух созданных институтов – расширялись не только направления исследований, но и материальная и производственная база учреждений. Это в свою очередь способствовало развитию подготовки кадров в областях физических и лесных наук.
Появление феномена информационных наук и их непосредственная связь с вопросами обороноспособности привели к возникновению закономерного интереса со стороны государства к новой области исследований. При учете созданной в регионе базы в области физических наук, а также активно развивающихся сетей военно-промышленного комплекса, также размещенных здесь, государство как актор вновь обратилось к вопросу расширения научной структуры края. Так, в 1975 г. в соответствии с постановлением Коллегии Государственного комитета Совета Министров СССР по науке и технике № 65 от 19 ноября 1974 г. в Красноярске был открыт Вычислительный центр1.
Разветвление сети научных институтов также возобновилось, но снова по линии уже действующих структур. В 1976 г. в Красноярске была создана лаборатория (впоследствии отдел) магнитной газодинамики Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения АН СССР, а в 1977 г. – отдел технологии горных работ Институт горного дела СО АН СССР2.
Дальнейшее сосредоточение экономики на сырьевой составляющей и сформированная организационная и материально-техническая база к концу 1970-х гг. поставили вопрос о создании самостоятельного филиала СО АН СССР в Енисейском регионе. Эта необходимость была осознана государством, фактически зафиксировавшим свою позицию в постановлении ЦК КПСС «О деятельности Сибирского отделения Академии наук СССР» от 27 января 1977 г.3 В постановлении подчеркивалась «необходимость повысить роль научных коллективов Сибирского отделения АН СССР в решении задач и подготовке рекомендаций, связанных с развитием производительных сил Сибири, предусмотреть активное участие отделения в разработке путей формирования территориально-производственных комплексов, проблем освоения новых районов Сибири, в особенности прилегающих к зоне строительства Байкало-Амурской магистрали, в исследованиях по дальнейшему развитию минерально-сырьевой и топливно-энергетической базы, включая Канско-Ачинский угольный бассейн и Норильский горно-металлургический комбинат, в поиске рациональных путей комплексного использования природных ресурсов и сохранения окружающей среды… ЦК КПСС подчеркивал, что непрерывное наращивание научно-технического потенциала Сибири и Дальнего Востока должно быть рассчитано на всемерное ускорение развития производительных сил в восточных районах страны»4.
В результате постановлением Совета министров СССР от 11 декабря 1978 г. № 1015 в Приенисейском регионе был организован Красноярский филиал СО АН СССР5. При этом расширение его структуры, последовавшее непосредственно сразу за учреждением данной организации, отвечало именно интересам государственного политического актора. В феврале 1980 г. возник Институт химии и химической технологии СО АН СССР (постановление Совета министров РСФСР от 19 февраля 1980 г. № 916), а в следующем году – Институт биофизики СО АН СССР (постановление СО АН СССР от 06 июня 1981 г. № 425)7.
Контролирующее и мотивирующее воздействие государства как политического субъекта особенно хорошо прослеживается, если обратить внимание на порядок появления нормативноправовых актов. В феврале 1971 г. было принято постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР «О мерах по комплексному развитию в 1970–1980 гг. производительных сил Красноярского края»1, устанавливавшего проведение крупного экономического эксперимента. Последний заключался в синхронном развитии промышленного производства, высокомеханизированного сельского хозяйства и предусматривал одновременное формирование территориально-производственных комплексов и восьми промышленных узлов (Центрально-Красноярский, Саянский, Нижне-Ангарский, Северо-Енисейский (Норильский) и Канско-Ачинский топливно-энергетический комплекс (КАТЭК)). Получивший название «первой Красноярской десятилетки», данный комплекс мер был первой целевой программой по комплексному социально-экономическому развитию одного из регионов Сибири.
Именно на основе этого политического решения Сибирское отделение АН СССР подготовило крупномасштабную программу научных исследований и разработок по комплексному использованию природных сил региона – «Сибирь».
Необходимо отметить, что реализация обеих программ была столь успешной, что в 1981 г. было принято решение об их продлении (постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР «О дальнейшем развитии производительных сил Красноярского края в 1981–1990 гг.»2).
Заинтересованность государства как актора в развитии экономического ресурсного потенциала, нежели комплексного расширения научных направлений в регионе, прямо отражалась в отчетной документации о ходе разработки генеральной схемы создававшегося Красноярского научного центра: «темпы роста учреждений фундаментальной науки в Сибири сложились на уровне 6–7 % в год по численности персонала, что, по-видимому, следует считать достаточным, поскольку в перспективе главное внимание будет обращаться не на прирост научных сотрудников, а на повышение производительности их труда»3.
Не менее хорошо заметно прямое влияние данного политического субъекта в искусственном формировании связей научных организаций с иными учреждениями региона. Так, довольно настойчиво государство вмешивалось в сеть, связывавшую научные субъекты края и высшие учебные заведения. По поручению центральной власти СО АН СССР был вынужден создавать внутри своих филиалов специальные группы из числа ведущих ученых, в задачи которых входило поддержание связей с вузами страны. Руководителям таких групп вменялась в обязанность даже разработка программ совместной работы с учреждениями Министерства высшего и среднего специального образования СССР4.
Несмотря на ригидную позицию государства как политического субъекта, система научных сетей в Красноярском крае к середине 1980-х гг. была достаточно развита и имела положительную динамику. Это с необходимостью поставило вопрос о расширении ее и в структурном плане в сторону создания академических учреждений гуманитарной направленности. Фактически назрел переход к становлению самостоятельной системы воспроизводства широкого интеллектуального ресурса в регионе.
Однако трансформация политической системы в 1980–1990-е гг. вновь отвернула государство от данной повестки. В ситуации разделения политической власти между различными институтами с целью предотвращения злоупотребления и обеспечения баланса и контроля любые потенциальные самостоятельные центры производства кадров дополнительно дестабилизировали хрупкие государственные структуры. Это закономерно привело к целенаправленной блокировке дальнейшего расширения научной структуры региона. Она была подменена развитием системы образовательных организаций, направленных на подготовку кадров для промышленности – «рабочих рук».
Таким образом, государство как политический субъект заняло в развитии исследуемой структуры довольно авторитарную позицию. Выстраивая границы возможного расширения формируемой системы научных организаций, оно закономерно пыталось выступать в качестве основного и единственного актора, который также определял направления развития. Основным рычагом влияния при этом служил финансовый фактор – доступ к общегосударственному бюджетному ресурсу, возможность распределения государственных траншей выступали в качестве главной точки воздействия на структуру научных организаций в Красноярском крае со стороны государства как политического субъекта.
При этом заметим, что при анализе организационной и делопроизводственной документации, хранящейся в архиве ФИЦ КНЦ СО РАН, не выявлено применение властного (административного) ресурса со стороны данного актора (в отличие от деятельности других политических субъектов). Причина, на наш взгляд, заключается в сырьевом подходе государственного института к региону. Для него край существовал как феномен, в первую очередь – экономический, принадлежащий области производства базы для материально-технического обеспечения жизнедеятельности других инфраструктурных частей. Инструменты и формы воздействия на него выбирались соответственно полевой экспериментальной территории.
Поворот в рассмотрении Приенисейского региона с позиций производственного, интеллектуального и инфраструктурного потенциала с обязательностью приводил к иной мотивационной основе в осуществлении влияния на формирование научной системы края. И если для государства как системы высокого порядка, функционировавшей в соответствии с тенденциями общесоветского пространства и в рамках, скорее, межгосударственных, нежели межсубъектных связей, данная точка зрения была неопределима, то в действиях представителей региональной номенклатуры и чиновничества она обнаруживалась в довольно ярко выраженном формате, как и в деятельности научных и общественных деятелей, проживавших в Красноярском крае.
Несмотря на то, что обе категории являются формами индивидуализированного политического субъекта, их мотивации, а соответственно, и характер воздействия различались. Это дает основание определить их в качестве самостоятельных акторов, чьи действия могли коррелироваться, но были довольно независимы.
Наиболее близкими по своему положению к государству как актору, очевидно, являлись представители управленческих кадров региона. Так, согласно материалам архива ФИЦ КНЦ СО РАН, непосредственное участие в создании в Красноярском крае регионального отделения СО АН СССР принял первый секретарь Красноярского Краевого комитета КПСС П.С. Федирко. Он озвучил соответствующее предложение в январе 1974 г. во время визита в Красноярск заместителя председателя Совета министров СССР В.А. Кириллина1. Именно данная активная поддерживающая позиция краевой власти смогла склонить государство на сторону представителей научного сообщества, уже не первый год до этого обращавшегося с инициативой в Президиум АН СССР.
Применение властного (административного), а не финансового ресурса как приоритетного в своем воздействии на научную систему региона, таким образом, можно считать наиболее очевидной характерной чертой данного политического актора. Основа этого лежала во встроенности представителей административного крыла в государство как его структурный элемент. «Особое внимание и контроль… должны проявлять партийные комитеты, – отмечал в своем докладе Л.Г. Сизов, второй секретарь Красноярского краевого комитета КПСС. – Организация исследования по таким (комплексным) программам… нуждается в повседневной помощи райкомов и горкомов партии». И далее: «Первостепенное значение приобретают задачи повышения роли райкомов, горкомов КПСС и первичных партийных организаций в запросах ускорения темпов научнотехнического прогресса»2.
«В организации и укреплении филиала большая помощь была оказана краевым комитетом партии, – указывал А.С. Исаев, директор Института леса и древесины СО АН СССР. – 26 апреля 1979 г. на совместном заседании бюро крайкома КПСС и Президиума СО АН СССР было принято специальное постановление “О мерах по развитию Красноярского филиала СО АН СССР”, которое стало основой нашей научно-организационной деятельности. 19 сентября 1980 г. секретариат крайкома КПСС рассмотрел вопрос о ходе выполнения этого постановления и признал работу филиала удовлетворительной»3.
При этом необходимо отметить особенности в использовании данного ресурса, вытекающие из особого положения рассматриваемого политического субъекта.
Государство как структурный феномен было довольно неповоротливым, как отмечалось выше. Жесткость границ и иерархических связей давала возможность, с одной стороны, относительно быстро влиять на реализацию тех или иных проектов. Например, 19 сентября 1980 г. секретариат крайкома КПСС на своем заседании специально рассмотрел вопрос о ходе выполнения упомянутого выше постановления. Вынесение данной темы в область политического взаимодействия было обусловлено, по мнению представителей самого научного сообщества, «необходимостью интенсифицировать работу по выполнению постановления», а также «углубить содержание задач», стоявших перед научными учреждениями Красноярского филиала4, то есть фактически необходимостью применить административный ресурс в целях предания импульса затормозившемуся развитию системы региональных научных организаций.
С другой стороны, принимаемая обществом жесткость структурных границ позволяла тормозить любые процессы в случае незаинтересованности представителей бюрократического аппарата в их осуществлении без какой-либо имиджевой потери – все списывалось на жесткую государственную систему, обезличивалось. Так, неплохим примером такого рода деятельности можно назвать затягивание процессов, связанных с оказанием помощи в организации и размещении новых научных учреждений и подразделений (Красноярского вычислительного центра, Отдела химии платиновых металлов Института неорганической химии, ремонтно-эксплуатационного цеха Института физики), текущим и перспективным строительством, организацией быта и отдыха жителей, озеленения территории размещения научной системы (Академгородка), со стороны городских властей. В своих отчетах Совет директоров Красноярских научных учреждений СО АН СССР периодически отмечал данную проблему1.
Другая черта рассматриваемого политического субъекта в отношении его влияния на региональную научную систему базировалась на индивидуализированном характере этого актора, позволявшем ему выходить за пределы структурных феноменов.
Красноярская номенклатура и чиновничество являлись представителями в том числе сетевых взаимодействий. Применение такого рода связей становилось дополнительным ресурсом, активно использовавшимся в процессе воздействия представителей управленческих кадров на развитие научной системы региона.
Таким образом, при анализе роли политических субъектов в развитии структуры научных организаций Красноярского края на первый план явственно вышли два актора – государство и чиновничество. Причем способы этого воздействия у каждого из них были обусловлены степенью его институализации, а характер влияния – привязкой к конкретной территориальной сети. В результате в регионе наблюдались как дополняющие формы влияния политических субъектов на формирование научной сети, так и тормозящие его, развивавшие лишь отдельные учреждения и отрасли, но не сеть в целом.
Список литературы Роль центральных и региональных органов власти в развитии системы научных организаций в Красноярском крае в 1950-1970-е гг
- Артемов Е.Т. Формирование и развитие сети научных учреждений АН СССР в Сибири 1944-1980 гг. Новосибирск, 1990. 189 с. EDN: RZXEUF
- Артемьева Е.Б., Куперштох Н.А., Лютов С.Н. Становление и развитие учреждений науки в Сибири и формирование системы их информационного обеспечения // Гуманитарные науки в Сибири. 2022. Т. 29, № 3. С. 103-111. DOI: 10.15372/HSS20220312 EDN: VZIAUP
- Дворецкая А.П., Гарин Е.Н., Гергилев Д.Н. Деятельность Всесоюзного арктического научно-исследовательского института в период эвакуации в Красноярске (1941-1944): складывание региональных исследований по Енисейскому Северу и Арктике // Социально-экономический и гуманитарный журнал. 2022. № 4 (26). С. 245-255. DOI: 10.36718/2500-1825-2022-4-245-255 EDN: ISFQXH
- Кольцов А.В. Роль Академии наук в организации региональных научных центров СССР, 1917-1961 гг. М., 1988. 261 с. EDN: WDZVFN
- Куперштох Н.А. Шесть десятилетий академической науки Сибири: СО АН СССР в советский период // История науки и техники. 2017. № 2. С. 3-14. EDN: YIRKFP
- Павлюкевич Р.В. Развитие сети научных учреждений Красноярского экономического района в 1957-1965 гг. // Вестник КрасГАУ. 2014. № 4 (91). С. 262-268. EDN: SFDTBN