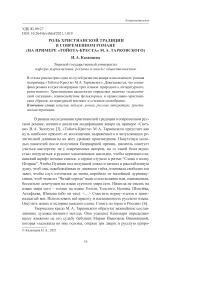Роль христианской традиции в современном романе (на примере "Тойота-Креста" М.А. Тарковского)
Автор: Казанцева Ирина Александровна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрен один из путей развития жанра классического романа на примере «Тойоты-Кресты» М.А. Тарковского. Доказывается, что специфика романа в строгой иерархии трех планов: природного, литературного, религиозного. Христианская аксиология определяет наличие «идиллической ситуации», взаимодействие фольклорных и православно-христианских образов, литературный контекст и стилевое своеобразие.
Идиллия, пейзаж, роман, русская литература, христи анская традиция
Короткий адрес: https://sciup.org/146282239
IDR: 146282239 | УДК: 82.09:27 | DOI: 10.26456/vtfilol/2021.1.019
Текст научной статьи Роль христианской традиции в современном романе (на примере "Тойота-Креста" М.А. Тарковского)
В рамках исследования христианской традиции в современном русском романе, начатого анализом модификации жанра на примере «Свечки» В. А. Залотухи [3], «Тойота-Креста» М. А. Тарковского предстает как путь наиболее прямого ее воплощения, выраженного в актуализации религиозной доминанты на всех уровнях произведения. Напутствуя молодых писателей после получения Патриаршей премии, писатель советует учиться мастерству не у современных авторов, но «с такой безоглядностью погрузиться в русское многовековое наследие, чтобы церковно-славянский шрифт ночами снился, а сердце стучало в ритме “Слова о полку Игореве”. Чтобы Пушкин под подушкой лежал и затекал в расслабленную душу, чтоб она, освобождённая от дневного гнёта, втягивала свободно его завет, чтобы слух отточился до звона, коробило от малейшей дурновку-синки, чтоб чтиво из “Читай-города” вмиг стало водянистым, одинаковым, бессильно лепечущем на языке суетного мира сего. Никогда не писать на языке мира сего – только на языке Гоголя, Толстого, Бунина, Шмелёва, Астафьева, Шипова (ибо он там). <…> Сместить норму-эталон в девятнадцатый век. Использовать всё красоту и насыщенность русского языка. Ощутить жизнь и историю каждого слова. Стоять по горло в России» [6].
Творческое кредо М. А. Тарковского образуют важнейшие составляющие художественного метода. Они усвоены благодаря определяющему влиянию на его судьбу бабушки Марии Ивановны Вишняковой, которая «заложила во мне основы, открыв три двери: в русскую приро-
ду, в русскую литературу, в Православный храм.…» [4]. Обозначенные направления иллюстрируют своеобразие романа М. А. Тарковского и одну из ведущих тенденций в сохранении «большого нарратива» в информационную эпоху. Они указывают на иерархию ценностей писателя и ступени «возрастания» души главного героя романа Евгения Барковца. Дистанция между автором и его главным героем демонстрирует усиление роли документального начала, свойственное современной художественной прозе. Об этом свидетельствуют не только автобиографические эпизоды, использованные в сюжете романа, но и характер взаимодействия прозаического и стихотворного текста в ткани произведения. В романной концепции мира и человека последовательно прослеживается иерархия природного, литературного и религиозно-православного планов.
Природный «пласт» романа выражается в своеобразии идиллической интонации, развиваемой М. А. Тарковским в единстве-преодолении почвеннической традиции русской литературы 60–80-х гг. ХХ в. Н. А. Вальянов справедливо отмечает, что «с хронотопом деревни у М. Тарковского связана поэтика “ушедшего времени”, потерянной идиллии – это хронотоп национального прошлого» [2, c. 10]. Принимая идею Н. А. Ва-льянова о переходе от кризисного к идиллическому хронотопу на позднем этапе творчества писателя, трудно согласиться с его пантеистической концепцией природы, данной исследователем: «Идиллическим топосом становится первозданная тайга как хранительница сокровенных тайн, высшего смысла человеческого бытия, как пространство, граничащее с Богом» [Там же, с. 22]. Русская природа не уравнена с Богом в правах как сопредельное независимое пространство, поскольку им сотворена. Во взаимодействии фольклорных и христианских образов в романе М. А. Тарковского иерархия всегда очевидна, она определена теоцентри-ческой концепцией мира. «Природа – это могучий образ красоты. Один из её ликов – горная тайга. У меня, помню, от самого́ этого словосочетания мураши побежали. <…>. Для меня природа, пожалуй, в двух ипостасях, промысловая, где ты как хозяин в стайке, где всё в традиции, в труде, в знании, и монастырская, когда ты как монах в келье – на ладони у Бога. Где озарённая одиночеством душа и себя, и мир познаёт. Ну, а источник вдохновения природа – неоспоримо. И восхищения. И поддержки. Хотя при этом природа без человека – во всех смыслах пустое место. Да и на земном шаре бесчисленное количество красивых побережий, гор и рек. И что дальше? <…>. Восхитительно приникнуть к стволу листвени, испить из горного ключа, или смотреть на облака, ползущие по склону, поросшему стройным кедрачом. Это свято, это не обсуждается… Это Божья прибавка ко всему прекрасному, что есть в жизни», – говорит М. А. Тарковский [6]. Как видим, тайга, естественное существование человека в гармонии с природой лишь следствие такого устройства мира, к которому красота природы становится «прибавкой», что безусловно воплощается в романе. Природное гармонизируется литературным контекстом романа и углубляется прорастанием в корневую православную традицию, настолько значимую для концепции героя, что нежелание понять данную основу национального характера, становится причиной разрыва Евгения и его брата Андрея с Машей и Григорием Григорьевичем. Христианское мировоззрение главного героя романа объясняет преодоление идиллической интонации по ушедшему «золотому веку», навсегда оставшемуся в прошлом и окрашивающему настоящее печалью и безысходностью. В романе обнаруживается «“идиллическая ситуация” (В.Э. Вацуро)», которая «часто сопутствует произведению, не имеющему жанрового определения “идиллия” и не создающему идиллический характер» [1, с. 10].
Композиционная организация «Тойоты-Кресты» (от «Кедра» к «Кресту» и «Распилышу»), реализуя теоцентрическую концепцию мира, дополняется сквозными многослойно-символичными природными образами, подчиненными ритму духовного строя героев: «В углу стен косо чернел силуэт кедра с обломанным стволом и живым боковым отвилком. Погибший ствол был как отрезан по границе стены, а боковой отстволок уцелел над монастырской землей и темнел живописно и густо» [7, с. 34]. Обобщение достигается за счет семантической нагрузки ключевых слов романа. Например, семантический ряд образа «батюшки» воплощает иерархию ценностей: от природы к литературе и к православию. В финале первой части романа в момент душевного кризиса главного героя Настя советует: «Тебе бы к батюшке» [Там же, с. 19]. Начало следующих двух главок в порядке «возрастания» ценности: «Я пошел к Батюшке Енисею» [Там же]. «Ранним утром ходил в монастырь <…>. Виски у отца Севастьяна (настоятеля монастыря. – И. К .) были прозрачными, как енисейская вода, а глаза видели насквозь» [Там же]. Синтез фольклорной и христианской традиций дан и в семантическом многообразии образа «батюшки», и в объединяющем природном сравнении с доминированием ценностей христианина, пришедшего к зрящему в корень беды священнику.
В подобной роли предстает пейзаж с центральным образом батюшки Енисея в очерках и других художественных произведениях М. А. Тарковского. В романе «Тойота-Креста» в сильной позиции заглавия произведения, центральной 2 главы («Крест»), в сквозной символике креста (потеря креста главным героем Евгением Барковцом во время душевной смуты, в народной песне, в акцентировании основной детали крестьянского дома – матице) звучит гимн традиции, исторической роли христианства в формировании национальной картины мира. В прославлении языка как фактора культурной общности М. А. Тарковский обращается к его церковно-славянской основе, хранимой церковью. «Особенно трогало его чтение молитв на церковно-славянском, уже казавшимся главным, ос- новным языком по сравнению с варварски выправленным спрямленным современным. Необыкновенной красоты графика, буквы, с такой любовью и нежностью восставшие вдруг в сердце и будто там пребывавшие. Поражало, что четыреста лет назад кто-то также произносил эти слова, и они звучали с той же несгибаемой неизменностью, и его кровинушка уже тогда существовала, участвовала в жизни – там, в шестидесятиградусных зимах, в многовековом морозном мороке. <…>. Читая даже незнакомый текст на старославянском, он ловил и угадывал течения и уже предчувствовал смысл – как проходишь на моторе по незнакомым порогам, не зная фарватера, но умея понимать реку. И как по родной дороге, двигался он в то унынии и невнимании, то в благодати, и добирали смысла слова, испытывая, привыкая, подпуская ближе и ближе» [Там же, с. 325]. Преемственность и родственность воплощены в символике монастырей Енисейска и Москвы, названных братьями.
Письмо Насти к старшему брату главного героя Василию Михайловичу написано стилем, соответствующим глубине внутреннего мира героини. Для нее общение со святыми – реальность духовной жизни, дарящей надежду на спасение. Старшему брату она передает икону его покровителя святого мученика Василия Мангазейского. Среднему брату Евгению напоминает батюшка Енисей: «Вот тут Настя с Енисейска кричит: Святых Отцов пусть читает! А они как говорят? Не тщись, человек, изменить судьбы Божия на земле – думай о спасении своей души…» [Там же, с. 391]. В интервью с М. Бойковой М. А. Тарковский сформулировал представление о традиции: «И еще в литературе очень важна зримость и национальная глубина характера, узнаваемость героев. Если кто-то произносит “современная книга”, я думаю, с ним бесполезно продолжать разговор, поскольку в этом слове заложена идея нарушения преемственности русской литературы» [5, с. 45]. В третьей части романа «Тойота-Креста» «Распилыш» происходит перенос значения слова с реалий дальневосточного бизнеса на состояние русского человека постсоветского времени. Преодоление разорванности («так и не сшил я ни куски своей жизни, ни лоскуты земли родной» [7, с. 388]) возможно в диалоге с традицией.
У М. А. Тарковского матица из дохристианского устроения крестьянского дома (в глубинном своем значении синонимична слову «корень») привносит смысловые акценты в отражение мироощущения современного человека, в котором автор видит то, «как русская душа приняла и допроявила учение Христа» [7, с. 326]. Когда Женя, «выходя из ворот монастыря вьюжным утром, допроявлял его своим кедром со сломанной вершиной и дивился, как уже и на улице доверчиво освоясь, длятся в душе напевные икосы Акафиста: “Радуйся, яко безумнии глумителие над тайнами веры тобою посрамляются”» [Там же, с. 326], через эту радость чувствует себя частью национального мира. Характеристика, данная На- стей людям, принимающим общество потребления, проходит по линии ценностной оси: «Они ничего не хотят сделать для этой Земли, они ничему не учатся ни у нее, ни тем более у неба, а только кормятся с руки у таких же, как они, и чувствуют себя прекрасно. Ты другой. Но даже ты как-то сказал: какое облегченье знать, что твоя душа бессмертна… Меня поразила твоя наивность. На самом деле это такая ответственность» [Там же, с. 121]. Становление души главного героя через ступени природного, литературного, религиозного познания «выстраивает» сюжетное развитие, пространственно-временную организацию.
Дистанция между автором и главным героем минимизирована за счет включения в текст романа лирики, интертекстуальных связей с русской классической и современной поэзией, посвящений и эпиграфов отдельных глав. Центральный мотив поэтического цикла из семи стихотворений, открывающих самую трагическую третью главу романа, – обращение лирического героя к Евгению Барковцу: «Я твой напарник. Я вернулся тебя сменить» [Там же, с. 224]. Единение дает надежду на возрождение и видится в языке и литературе как основе христианского ядра культуры. У русской литературы, по М. А. Тарковскому, «есть три главных признака, критерия. <…> Я считаю, что это религиозность, народность и благородство интонации» [5, с. 45].
Итак, природа и литература включены М. А. Тарковским в христианскую аксиологическую картину мира, современный герой романа призван собрать в себе и в других «лоскуты» жизни в общее пространство, где «горят свечки… как стебли светящиеся, прозрачные и чистые, как сердца этих подвижников, аки воск мягкие и податливые в своем послушании. И очищают своим пламенем тяжкий наш воздух, нашу тьму безбожную, и пламя покачивается, и потрескивают свечки…» [7, с. 412]. Перспективы современного романа в глубоком следовании традиции русских классических образцов жанра с предельной этической заостренностью, христианской доминантой, данной не в архаическом или мифологическом измерении, но как реальность многовекового национального опыта выживания.
Tver State University
Список литературы Роль христианской традиции в современном романе (на примере "Тойота-Креста" М.А. Тарковского)
- Быченкова С.В. Жанр идиллии в русской романтической поэзии первой трети XIX века: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / С.В. Быченкова; Владимирский гос. ун-т. Владимир, 2006. 19 с.
- Вальянов Н.А. Художественный мир М.А. Тарковского: пространство, время, герой: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Н.А. Вальянов; воронежский гос. ун-т. Воронеж, 2018. 24 с.
- Казанцева И.А. Диалог традиций в современном романе (на примере романа "Свечка" В.А. Залотухи") // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2020. № 1. С. 47-52.
- Тарковский М.А. Бабушкин внук [Электронный ресурс] // Роман-газета. 2018. № 7. URL: http://журнальныймир.рф/content/babushkin-vnuk (дата обращения: 12.12.2020).
- Тарковский - о главных признаках русской литературы: интервью М. Бойковой с М.А. Тарковским // Читаем вместе. 2019. № 12. С. 45.
- Тарковский М.А. "Стоять по горло в России…": интервью С. Арутюнова с М. Тарковским [Электронный ресурс] // Дон. 2019. № 4-6. URL: http:// журнальныймир.рф/content/mihail-tarkovskiy-stoyat-po-gorlo-v-rossii (дата обращения: 1.12.2020).
- Тарковский М.А. Тойота-Креста. М.: Эксмо, 2016. 416 с.