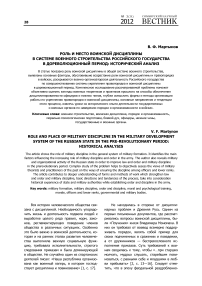Роль и место воинской дисциплины в системе военного строительства Российского государства в дореволюционный период: исторический анализ
Автор: Мартынов Вячеслав Федорович
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: История и историография
Статья в выпуске: 3 (9), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье показана роль воинской дисциплины в общей системе военного строительства, выявлены основные факторы, обусловившие возрастание роли воинской дисциплины и правопорядка в войсках, раскрывается военно-организаторская деятельность Российского государства по совершенствованию системы укрепления правопорядка и воинской дисциплины в дореволюционный период. Комплексное исследование рассматриваемой проблемы поможет объективно оценить взгляды военных теоретиков и практиков прошлого на способы обеспечения дисциплинированности офицеров и нижних чинов, глубже осмыслить формы и методы организации работы по укреплению правопорядка и воинской дисциплины, основные направления и тенденции этого процесса, извлечь уроки из исторического опыта деятельности государственных и военных органов по наведению порядка и организованности в войсках.
Военное строительство, воинская дисциплина, порядок и организованность, морально-психологическая подготовка, боевой дух, офицеры, нижние чины, государственные и военные органы
Короткий адрес: https://sciup.org/14113707
IDR: 14113707
Текст научной статьи Роль и место воинской дисциплины в системе военного строительства Российского государства в дореволюционный период: исторический анализ
Вся история человеческого общества связана с дисциплиной. Необходимость упорядочить жизнь и деятельность подвела людей к выработке целого ряда правил, норм, законов, регламентирующих поведение членов общества в различных ситуациях. Особенно это было важно в воинской деятельности, которая и на ранних этапах развития человечества выполняла важную социальную функцию, требовала исполнительности, строгого следования приказам и была доминирующей в обществе. Не случайно один из спартанских деятелей писал: «Наша республика организована как военный лагерь, в котором господствует дисциплина и повиновение» [1, с. 17].
Не находилась в стороне от дисциплинарных проблем и Древняя Русь. Одним из первых письменных документов, где рассматривались вопросы воинской дисциплины, были «Поучения» князя Владимира Мономаха. В них он требовал от воевод всемерно поддерживать порядок, являть собой пример для своих подчиненных в сражении и поведении, а от дружинников — беспрекословного исполнения приказов. Суть требований к воинам сводилась к тому, чтобы «…при старших молчать, мудрых слушать, старейшим повиноваться, с равными себе и младшими в любви пребывать» [2, с. 13—16]. Следует отметить, что в эпоху феодальной раздробленно- сти дисциплина в княжеских дружинах поддерживалась на основе кодексов чести, соблюдения клятвы верности. «Военный вождь, приобретший славу, собирал вокруг себя отряд жаждавших добычи молодых людей, обязанных ему личной верностью, как и он им. Он содержал и награждал их, устанавливал известную иерархию между ними» [3, с. 143]. Нарушители правил, норм держались в «нужде» (подвергались наказанию) и могли понести кару вплоть до смертной казни. Дисциплинированное поведение поощрялось различными наградами (ценные подарки, трофеи, имущество). Такая дисциплина в данный исторический период обеспечивала порядок, организованность, эффективность боевых действий.
Развитие военного дела, изменение оружия и способов ведения боевых действий потребовали большей дисциплинированности, организованности, точности, исполнительности, аккуратности. На смену индивидуализированным формам военного противоборства пришли действия в составе подразделений, частей и даже армий. Всякое промедление, изменение назначенных интервалов и дистанций, несанкционированное открытие огня приводило к нарушению строя и даже к поражению. «С изобретением нового орудия войны, огнестрельного оружия, — писал Ф. Энгельс, — неизбежно изменилась вся внутренняя организация армий, преобразовались те отношения, при которых индивиды образуют армию и могут действовать как армия» [4, с. 163—164]. Следствием этого стало ужесточение требований к воинам, усиление ответственности за выполнение обязанностей, личное поведение . Средством достижения слепого повиновения служила муштра — система психофизиологического подавления воина. В итоге казарма превратилась для солдата в настоящую тюрьму, а палка капрала частенько становилась страшнее всякого неприятеля.
Наряду с этим нельзя не видеть и противоположной тенденции, характерной для того времени. Она выражалась в стремлении ряда военачальников обращаться к сознанию солдатских масс, терпеливом разъяснении требований службы, заботе о них. В истории России эта прогрессивная линия изначально ассоциируется с именем и деятельностью Петра I, его многочисленными реформами, имевшими цель вывести страну в число передовых ев- ропейских государств, создать армию, флот, способные противостоять агрессивным устремлениям алчных соседей. Основу побед он видел в нравственном элементе («безконфуз-стве»), средствами для поддержания которого рассматривал дисциплину, организованность, твердый характер офицеров в сочетании со справедливым их отношением к подчиненным, личным примером служения Отечеству. Девиз «В службе — честь» составлял стержень всей воспитательной работы в петровской армии.
Первый российский император не мыслил воинскую службу без твердой дисциплины и исполнительности. Он неоднократно подчеркивал необходимость поддержания «доброго порядка» в войсках, обязывая начальников «правду, суд и порядки накрепко смотреть», требовал применять немедленные меры к нарушителям дисциплины и «весьма воздерживаться от всякого непристойного рассуждения об указах, которые от начальника даны». Но наряду с этим император требовал каждый раз думать над тем, как лучше выполнить те или иные уставные положения. «В уставах порядки писаны, а времени и случаев нет» [5, с. 31]. Да и само слово «дисциплина» в привычном для нас смысле получило свое распространение с его указа «О сохранении дисциплины на корабле и подсудности морских и сухопутных военнослужащих людей», изданного в 1714 году [6, с. 113—116].
Объективности ради следует сказать, что в своем стремлении навести порядок Петр I был весьма беспощаден. Как и многие его современники, он считал, что суровые дисциплинарные меры могут предотвратить нарушения, обеспечить тем самым эффективность различных видов деятельности. Так, утверждая инструкцию для Морской академии, он сделал весьма «существенную» приписку: «Для унятия крика и бесчинства выбрать из гвардии отставных добрых солдат, и быть им по человеку во всякой каморе во время учения, иметь хлыст в руках, и буде кто из учеников станет бесчинствовать, оных бить, несмотря какой бы он фамилии не был» [7, с. 40].
В качестве тенденции в деле поддержания воинской дисциплины следует выделить и стремление систематизировать требования к военнослужащим и представить их в виде соответствующих уставов. Еще при Иване Грозном (в 1571 г.) был учрежден «Боярский при- говор о станичной и сторожевой службе», в котором, наряду с другими, нашли правовое оформление вопросы дисциплины (в частности, перечень и порядок наказания за нарушения правил несения сторожевой службы). В «Соборном уложении» царя Алексея Михайловича в главе VII «О службе всяких ратных людей Московского государства» предпринята попытка классифицировать проступки воинов и меры наказания за их совершение [8, с. 113]. В период правления Петра I были изданы «Устав воинский» (1715 г.), «Морской устав» (1720 г.), содержащие положения о сути дисциплины, способах ее поддержания, статьи с перечнем не только обязанностей, но и прав военнослужащих. Однако эти дисциплинарные аспекты были распылены по главам, разделам и не носили завершенного характера [9].
Анализ уставов и других нормативных актов того времени показывает, что в них закладывался такой прогрессивный принцип, как условная обязательность приказов воинских начальников, то есть не всякий приказ надлежал исполнению, а прежде всего законный. Своим указом «О бытии подчиненных в послушании у своих командиров» (1724 г.) Петр I установил: «Всем подчиненным быть в послушании у своих командиров во всем, что не противно указу. А ежели что противно, того отнюдь не делать... Но должен командиру своему... объяснить, что то противно указам, и ежели не слушает, то протестовать и доносить вышестоящим над ним командирам, а ежели в том увидит противность, то генерал-прокурору или в небытность его обер-прокурору, а ежели в них усмотрит противность, то доносить его Величеству, но чтобы была сама истина» [10, с. 850]. Этот принцип сохранялся в военном законодательстве России вплоть до Октябрьской революции.
Передовые идеи Петра I развивались его учениками и достойными продолжателями. К их числу по праву относят П. А. Румянцева, А. В. Суворова, Ф. Ф. Ушакова, М. И. Кутузова, М. П. Лазарева, П. С. Нахимова и др. С их именами связана и такая тенденция, как гуманизация отношений начальников с подчиненными, методов и средств дисциплиниро-вания личного состава, получившая развитие во второй половине ХVIII века. Так, по мнению П. А. Румянцева, приучение молодого рекрута к порядку и дисциплине должно идти последовательно, с учетом его индивидуальных особенностей: «Он не должен быть не только бит, но ниже стращен, а все сие ласковостью и со истолкованием ему изъяснять...». А. В. Суворов считал, что искоренение дурных пороков у людей необходимо осуществлять в основном увещеваниями, но при необходимости и умеренными наказаниями. Рассматривая пьянство как предпосылку недисциплинированности, адмирал Ф. Ф. Ушаков в приказе требовал «наистрожайше оное запретить, пьяных наказывать и тем усмирить и оное прекратить», а с руководителей строго спросить [11, с. 34, 41].
В конце XVIII — начале XIX века в России, как и ранее в странах Западной Европы, назрел кризис самодержавно-крепостнических отношений. Все большее число прогрессивно мыслящих русских офицеров выступало за изменение системы отношений в армии, признание за солдатами, матросами права на человеческое обхождение. Развитию таких настроений способствовала победоносная Отечественная война (1812 г.), в которой воины продемонстрировали мужество, героизм, великую любовь к Родине. Именно поэтому декабристы считали, что пути поддержания дисциплины в армии не в ужесточении требований, а в создании условий, где бы проявились лучшие черты солдат. Так, один из них В. Ф. Раевский писал: «Ни один беспорядок в армии не возник собственно от солдата — либо жестокость или корыстолюбие и неразумие начальников были тому поводом. Русский солдат с каким-то благоговением видит власть, повинуется ей безмолвно, но любит видеть власть законную и справедливую» [12, с. 90].
Исторический анализ показал, что дальнейший ход событий в стране негативно отразился на состоянии дел в армии. После разгрома восстания декабристов в армии усилилась муштра, жестокое отношение к подчиненным насаждалось высокопоставленными лицами. Дисциплина с элементами сознательности, получившая развитие в годы войны, была заменена палочной. От офицеров требовались кротость, согласие, беспрекословное повиновение властям [13, с. 138]. Руководителей того периода, в том числе А. А. Аракчеева, оставившего глубокий след в истории России, отличали маниакальная любовь к порядку, который носил внешний, формальный характер и проявлялся в установлении единообразия, симметрии, монотонности и т. п. Именно измельчание верховной власти, стремление регламентировать все стороны жизни и быта — характерная черта абсолютизма, особенно в период его заката [14, с. 55—56].
Существенные изменения в вопросе понимания существа воинской дисциплины, ее места и роли, средств поддержания произошли во второй половине ХIХ века. Обострение социальных противоречий, осознание в обществе порочности крепостничества, поражение в Крымской войне (1853—1856 гг.) подтолкнули страну к осуществлению реформ в социально-политической, экономической, военной областях [15]. Преобразования в военной сфере затронули и систему укрепления воинской дисциплины. В соответствии с принятым в 1863 году «Положением об охранении воинской дисциплины и взысканиях дисциплинарных» упорядочивались взаимоотношения между различными категориями военнослужащих, давалось определение воинской дисциплины. В параграфе первом положения говорилось, что «воинская дисциплина состоит в строгом соблюдении предписанных военными законами правил, в сохранении во вверенной команде совершенного порядка и добросовестном исполнении приказаний без всякого произвольного их изменения, в неоставлении, по слабости надзора или пристрастию, проступков и упущений без взысканий» [16]. В 1869 году это положение было заменено на первый в русской армии Дисциплинарный устав. В нем были перечислены все виды дисциплинарных взысканий, налагаемые на нижних чинов и офицеров, права начальников и порядок наложения взысканий, раскрыты вопросы о жалобах и претензиях и др. Регламентация поощрений отсутствовала. В уставе также была глава о суде общества офицеров, определялись формы специальных ротных журналов для нижних чинов и полковой журнал для офицеров, где фиксировались все дисциплинарные проступки военнослужащих.
В этот период все большее число офицеров приходит к выводу о необходимости юридического закрепления не только обязанностей, но и прав военнослужащих как полноправных граждан. Только в том случае, если личность будет уважаема, подчинена исключительно закону, а дисциплина будет пра- вильно пониматься, можно добиться надлежащего порядка, считали они [17]. Весьма точно об этом писал известный русский генерал М. И. Драгомиров. Он указывал, что «дисциплина стала силой, столь же обязывающей, сколь и обеспечивающей от неправых посягательств; столь же облекающей властью, сколько и сдерживающей произвол» [18, с. 3]. Характерным было и то, что во многих статьях того времени, посвященных вопросам правопорядка в армии, речь шла о таких основах дисциплины, как патриотизм, православие, долг и честь, необходимость учета специфических традиций и особенностей психологии россиян и т. д. Как и А. В. Суворов, признававший строгость без педантичности, генерал М. Д. Скобелев считал, что следует всячески избегать формалистики, натянутости в отношениях, давать возможность исполнителю, воспитанному в духе такой дисциплины, «рассуждать» в пределах данной и необходимой ему свободы [19]. Крайне важно, чтобы требования были целесообразными. В противном случае команда, «не видя пользы и необходимости их, — писал адмирал С. О. Макаров, — приучается к неповиновению, неуважению офицеров, а все это — прямые шаги к упадку дисциплины» [20, с. 42].
В деле формирования «духа» такой дисциплины крайне необходимым является создание надлежащих материальных и психологических условий. Поэтому генерал Н. Д. Бутовский рекомендовал подчиненным офицерам делать все для того, «чтобы хорошему человеку хорошо жилось в своей роте и было за что любить ее» [21]. Именно через любовь к своему подразделению, полку (кораблю) воспитывалась любовь к Родине, верность присяге и долгу, уважение к дисциплине и порядку. «Дух патриотизма должен лежать в основании и венчать всякую военную систему, — отмечал большой знаток и популяризатор военной педагогики Д. Н. Трескин, — в противном случае она не будет иметь никакой цены» [22, с. 21]. Не менее важным считалось обеспечить сознательное отношение к требованиям законов и уставных требований. Известный юрист князь С. А. Друцкой писал в начале XX века: «Принцип слепого повиновения можно принять тогда, когда люди утратят способность жить и стремиться к чему-либо; для достижения такого состояния необходимо лишить людей способности мыслить и чувст- вовать, другими словами, превратить их в са-модвижущихся кукол» [23, с. 168].
Поражение России в войне с Японией, приведшее к падению престижа воинской службы, пренебрежению долгом, честью, росту скепсиса, нигилизма, негативно сказалось на состоянии воинской дисциплины. И в очередной раз предлагалось употребить власть и закон, использовать меры репрессивного характера. На что адмирал А. А. Ливен ответил, что закон лишь регулирует проявления дисциплины, а в ее основе лежит «единство власти, близкая связь начальника с подчиненными, взаимное понимание и доверие, личный авторитет и влияние начальников» [24, с. 41].
Характерным для данного периода было активное участие в обсуждении проблем воинской дисциплины большого числа офицеров различного уровня . На страницах ряда изданий можно было видеть статьи и известных военных деятелей, и офицеров из войск. С большим интересом военная общественность воспринимала статьи В. И. Дацевича, Н. И. Мау, В. И. Изместьева, Н. П. Бирюкова, С. Гершельмана, М. Левитского, В. Бацова и др. Развивая идеи о нравственном элементе дисциплины, сознательности и патриотизме, обоснованности мер дисциплинарного воздействия, они все чаще вынуждены были выходить на факторы социального порядка и искать в них причины снижения уровня состояния дисциплины в частях и на кораблях. По их мнению, общество должно проявлять больший интерес к жизни армии, вникать в ее нужды и проблемы, а не относиться высокомерно как к некоему реакционному, закостенелому организму. «В современные дни, — писал М. С. Галкин, — наша интеллигенция так много требует от армии, а что она дает взамен! Пренебрежение, равнодушие и, будем правдивы и скажем, порой — даже неприязнь» [25].
Таким образом, анализ проблем строительства российской императорской армии с момента ее возникновения и до революции 1917 года показывает, что важнейшим направлением этой работы являлось поддержание воинской дисциплины. По мере совершенствования общественных институтов, развития военно-педагогической школы решение задачи формирования дисциплинарного поведения военнослужащих усложнялось.
В этом процессе возникали новые тенденции, к каковым следует отнести: постоянный рост требований к поведению и деятельности военнослужащих; усиление связи военного дела и дисциплины; систематизацию требований и представление их в виде законов, уставов; юридическое закрепление не только обязанностей, но и прав военнослужащих; гуманизацию отношений в воинской среде и средств, методов поддержания дисциплины и уставного порядка; оптимизацию выбора средств, способов поддержания дисциплины в различных условиях; влияние личности командира на дисциплину подчиненных; влияние политического режима на состояние дисциплины и практики ее поддержания; зависимость дисциплины от материально-бытовых условий; постепенный переход от слепого повиновения к осознанному поведению; связь дисциплины с материальными, моральными интересами и др. Реализация этих тенденций в ходе строительства русской армии на протяжении нескольких столетий привела к накоплению богатейшего исторического опыта поддержания и укрепления воинской дисциплины, который в значительной степени может быть использован в практике воспитательной работы в современной российской армии.
-
1. Харламов, И. Ф. Педагогика / И. Ф. Харламов. М. : Высш. шк., 1990.
-
2. Хрестоматия по педагогике. М., 1938. Т. 4. Ч. 1.
-
3. Маркс, К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. 2-е изд. Т. 21.
-
4. Маркс, К. Избранные произведения : в 3 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. М. : Политиздат, 1983. Т. 1.
-
5. Сборник военно-исторических материалов. СПб., 1892. Вып. 1.
-
6. Волков, Е. Первый морской устав русского флота / Е. Волков // Военно-исторический журн . 1968. № 5.
-
7. Хрестоматия по истории школы и педагогики в России. М. : Просвещение, 1974.
-
8. Хрестоматия по русской военной истории. М. : Воениздат, 1947.
-
9. Первая попытка создания дисциплинарного кодекса была предпринята в 1837 году, когда по указанию Николая I был подготовлен военно-полицейский устав, не получивший в дальнейшем монаршего утверждения. И лишь в 1863 году был принят Дисциплинарный устав, получивший название «Положение об ох-
ранении воинской дисциплины и взысканиях дисциплинарных». Все последующие документы сохраняли основные положения и уточняли лишь некоторые разделы. Причем статья о телесных наказаниях для низших чинов просуществовала в них до 1904 года (примеч. авт.).
-
10. Указы блаженные и вечнодостойные памяти Государя Императора Петра Великого с 1714 по 1725 гг. СПб., 1799.
-
11. О долге и чести воинской в российской армии : сб. док. М. : Воениздат, 1990.
-
12. Раевский, В. Ф. Материалы о жизни и революционной деятельности / В. Ф. Раевский. Иркутск, 1980. Т. 1.
-
13. Савельев, А. И. Исторический очерк инженерного управления России за период царствования императора Николая I / А. И. Савельев. СПб., 1896.
-
14. История СССР (ХIХ — начало ХХ в.). М. : Высш. шк., 1981.
-
15. Зайончковский, П. А. Военные реформы 1860— 1870 годов в России / П. А. Зайончковский. М. : МГУ, 1952.
-
16. Положение об охранении воинской дисциплины и взысканиях дисциплинарных. СПб., 1863.
-
17. Военный сб. СПб., 1861. Т. 19.
-
18. Драгомиров, М. И. Армейские заметки / М . И . Драгомиров // Сб. оригинальных и переводных ст. М. И. Драгомирова, 1856—1880. СПб., 1881.
-
19. Взгляды М. Д. Скобелева на военное дело // Армейские вопр. СПб., 1893. Вып. 1.
-
20. Макаров, С. О. Документы / С. О. Макаров. М. : Военмориздат, 1953.
-
21. Бутовский, Н. Д. Воспитательные задачи командира роты / Н. Д. Бутовский // Военный сб. СПб., 1884. № 12.
-
22. Трескин, Д. Н. Курс военно-прикладной педагогики. Дух реформы русского военного дела / Д. Н. Трескин. Киев, 1909.
-
23. Друцкой, С. А. Причины невменения в государственном уголовном праве / С. А. Друцкой. Варшава, 1902.
-
24. Ливен, А. А. Дух и дисциплина нашего флота / А. А. Ливен. СПб., 1914.
-
25. Галкин, М. С. К познанию армии / М. С. Галкин // Военный сб. СПб., 1914. № 1.
Список литературы Роль и место воинской дисциплины в системе военного строительства Российского государства в дореволюционный период: исторический анализ
- Харламов И. Ф. Педагогика/И. Ф. Харламов. М.: Высш. шк., 1990.
- Хрестоматия по педагогике. М., 1938. Т. 4. Ч. 1.
- Маркс К. Сочинения/К. Маркс, Ф. Энгельс. 2-е изд. Т. 21.
- Маркс К. Избранные произведения: в 3 т./К. Маркс, Ф. Энгельс. М.: Политиздат, 1983. Т. 1.
- Сборник военно-исторических материалов. СПб., 1892. Вып. 1.
- Волков Е Первый морской устав русского флота/Е. Волков//Военно-исторический журн. 1968. № 5.
- Хрестоматия по истории школы и педагогики в России. М.: Просвещение, 1974.
- Хрестоматия по русской военной истории. М.: Воениздат, 1947.
- Указы блаженные и вечнодостойные памяти Государя Императора Петра Великого с 1714 по 1725 гг. СПб., 1799.
- О долге и чести воинской в российской армии: сб. док. М.: Воениздат, 1990.
- Раевский В. Ф. Материалы о жизни и революционной деятельности/В. Ф. Раевский. Иркутск, 1980. Т. 1.
- Савельев А. И. Исторический очерк инженерного управления России за период царствования императора Николая I/А. И. Савельев. СПб., 1896.
- История СССР (XIX -начало ХХ в.). М.: Высш. шк., 1981.
- Зайончковский П. А. Военные реформы 1860-1870 годов в России/П. А. Зайончковский. М.: МГУ, 1952.
- Положение об охранении воинской дисциплины и взысканиях дисциплинарных. СПб., 1863.
- Военный сб. СПб., 1861. Т. 19.
- Драгомиров М. И. Армейские заметки/М. И. Драгомиров//Сб. оригинальных и переводных ст. М. И. Драгомирова, 1856-1880. СПб., 1881.
- Взгляды М. Д. Скобелева на военное дело//Армейские вопр. СПб., 1893. Вып. 1.
- Макаров С О. Документы/С. О. Макаров. М.: Военмориздат, 1953.
- Бутовский Н. Д. Воспитательные задачи командира роты/Н. Д. Бутовский//Военный сб. СПб., 1884. № 12.
- Трескин Д. Н. Курс военно-прикладной педагогики. Дух реформы русского военного дела/Д. Н. Трескин. Киев, 1909.
- Друцкой С. А. Причины невменения в государственном уголовном праве/С. А. Друцкой. Варшава, 1902.
- Ливен А. А. Дух и дисциплина нашего флота/А. А. Ливен. СПб., 1914.
- Галкин М. С. К познанию армии/М. С. Галкин//Военный сб. СПб., 1914. № 1.