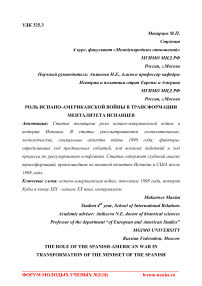Роль испано-американской войны в трансформации менталитета испанцев
Бесплатный доступ
Статья посвящена роли испано-американской войны в истории Испании. В статье рассматриваются геополитические, экономические, социальные аспекты войны 1898 года; факторы, определившие ход предвоенных событий, ход военных действий и ход процесса по урегулированию конфликта. Статья содержит глубокий анализ трансформаций, произошедших во внешней политике Испании и США после 1898 года..
Испано-американская война, поколение 1898 года, история кубы в конце xix - начале xx века, империализм
Короткий адрес: https://sciup.org/140281714
IDR: 140281714
Текст научной статьи Роль испано-американской войны в трансформации менталитета испанцев
Перед Вами статья, задуманная, как небольшой исследовательский очерк, написанный по помпезному роману под названием «Ideal War». Надеюсь, в нём вы встретите интересные мысли, неожиданные сравнения, прямые аналогии, отсылающие к происходящему в наши дни или происходившему недавно.
Статья была написана с целью лучше понять психологию или принципы международных отношений (оставим теоретикам международных отношений на откуп терминологический спор о том, что движет международными отношениями). Склоняясь к социальному конструктивизму, я поставил на первое место именно психологию, и кроме того отмечу, что вижу внутреннюю политику страны фактором детерминирующим политику внешнюю.
Литературы, конкретно посвящённой испано-американской войне существует немного. Например, «блестящая маленькая война» Харрингтона, Питера и Фридерика А. Шарфа представляет собой замечательный образец фолианта по военной истории, основанного на отчете командированного по Высочайшему повелению к испанским войскам на остров Куба полковника Генерального штаба Жилинского. 1899 г, фолианта идеологизированного, оправдывающего американские действия «жизненной необходимостью установления прочной безопасности в Вест-Индии»1. Словом, англо- саксонская литература по этой тематике несёт защитно-оправдывающий действия США характер, а если принять во внимание, что лучшая защита — это нападение, мы сталкиваемся с тем, что, изучая данную литературу, мы можем вычленить только сугубо американское видение войны 1898 года, построенное на архитипах, да на идеологемах. Такая же история приключается и с Келлером Алианом (The Spanish–American War: A Compact History), и с Джозефом (The Spanish–American War: Conflict in the Caribbean and the Pacific)
И наоборот, испанские исследователи инкриминируют всё произошедшее американцам, постоянно фокусируя внимание на том, что дескать Кубу потом они обманули, независимости не дали, жили кубинцы в «псевдореспублике», их очень жалко, раньше им, безусловно, жилось лучше. Гиермо Г. Сойеха в своей работе, посвящённой взрыву броненосца «Мэн», начинает собственную работу с обвинения американцев2. Вообще, стоит отметить, что на испано-американской войне испанские исследователи не очень любят заострять своё внимание, а если и заостряют, то только с тем, чтобы определить Испанию жертвой империализма США.
Русскоязычная научная литература редко обращает пристальное внимания на испано-американскую войну. Безусловно, эта война фигурирует в контексте внешней политики Испании или США конца XIX – начала XX века, реже в контексте внутренней политики Испании. Часто можно встретить анализ испано-американской войны при чтении литературы, посвящённой Латинской Америке. Так, например «Политическая история стран Латинской Америки в XIX веке» под редакцией Е.А. Ларина только и фокусируется на процессе приобретения независимости Кубы (естественно в соответствующем разделе), то есть опять тематика испано-американской войны уходит на задний план. Не думаю, что тут дело в эндогенном детерменизме, пожалуй, выбор такого угла обзора истории более соответствует заявленному заглавию сборника.
Изучив описанную выше литературу, я пришёл к таким выводам.
Во-первых, ни испанская, ни американская литература совершенно не годятся в качестве спутника моему анализу. Однако, во-вторых, для своей работы мне полезно употребить испанскую и американскую публицистику, а также официальные заявления того времени в качестве источника (список используемых источников смотрите в последнем разделе работы). В-третьих, фактологическую информацию мне проще всего брать из литературы технического характера, то есть литературы подающей информацию без анализа, просто чередой фактов. Такая литература нашлась, это отчет командированного по Высочайшему повелению к испанским войскам на остров Куба полковника Генерального штаба Жилинского. 1899 г. Казалось бы для чего Российской Империи было иметь официального военного представителя на Кубе, ведь отношения с Америкой и с Испанией Россия поддерживала слабо3. Дело в том, что по заключительным положениям Венского конгресса 1814-1815 гг., Великие державы во всех военных конфликтах обязывались иметь представителя — военного атташе. Николай II, жаждущий подчеркнуть великодержавный статус страны, высылал военных атташе с завидной регулярностью. На протяжении военных действия 1898 года Российская Империя своего мнения не выражала, поэтому над Яковом Жилинским довлеющая сила официальной установки не витала и ход событий он описывал беспристрастно (Россия выскажет свою позицию только к 30 августа, осуждая захватнические действия США, то есть к тому времени, когда отчёт был уже отправлен в Россию. Он датируется 12 (26) августа 1898 года).
Обзор имеющейся научной литературы показал, что работ, затрагивающих тематику испано-американской войны совсем немного. Работ, затронувших бы психологию испано-американской войны, нет.
Цель моей работы заключается в том, чтобы сделать первый шаг на пути к пониманию ментальной, если угодно метафизической, сущности испано-американской войны. Неслучайно же потерю казалось бы небольшого, недоразвитого, бунтующего острова называют «катастрофой»? Неслучайно появилось поколение 1898 года. Неслучайно потом начались подобные войны по всему свету.
Чтобы во всём этом разобраться, я буду вести повествования так: сначала мы посмотрим на экономическое и геополитическое значение Кубы для США и Испании, затем подробно остановимся на идеологическом аспекте проблемы. Потом наше внимание будет устремлено на то, как началась война физическая и информационная, быстро рассмотрим ход боевых действий. Затем сосредоточимся на мирном договоре, ознаменовавшим окончание войны, а также дадим «небуржуазную» характеристику произошедшему.
Начнём издалека.
Курс США на форсирование «всемирного геополитического тяготения». 1820, до «Катастрофы» почти ещё 80 лет, царствование Фердинанда VII, Изабеллы II, Амадея I, Альфонсо XII, а Томас Джефферсон уже тогда определял Кубу как наиболее интересное дополнение, которое когда-либо можно сделать к системе штатов4, указывая своему военному секретарю Джону К. Калхоуну на то, что было бы не плохо при первой же возможности «взять» Кубу5. Наверно, Джоржа Буша-старшего, провозгласившего новый внешнеполитический курс, ориентированный на повсеместное распространение демократии и устранение диктаторских режимов, удивило бы, что новаторства в его внешней политики не было. До него всё придумал Томас Джеферсон, в той же речи упомянувший
«стратегическую необходимость демократизации всего американского окружения»6.
Удивительно, но при первой возможности Кубу взять не получилось: совершенно неожиданно для американцев периодически вспыхивающие гражданские войны на Кубе не приводили к крыше сносящему перевороту, а сам остров испанцы, смахивая слезу гордости, что Куба все ещё пришвартована в родной гавани, называли “Siempre fiel isla”.
Чем была так хороша Куба до Фиделя Кастро, существовала ли вообще Куба до ненавистного Батисты или Р-14 поплыли на специально намытый, подобно японскому острову, оплот коммунизма?
Рассмотрим этот вопрос в следующих плоскостях: геополитической, идеологической и экономической, пытаясь максимально приблизиться к академического стиля асимптоте.
Даже избегая экономического детерминизма, мы можем сказать, что экономический фактор на начальном этапе кубино-американских отношений был определяющим. Уже в 1818 году в обход устоявшегося запрета колониям торговать с иными странами кроме метрополии начинаются торговые отношения США и Кубы. Начались они сладко, с продажи сахара Кубой. Через 60 лет в доле внешнеэкономического экспорта Кубы США занимали 82%, превратившись в монопольного поставщика сахарного тростника и сахарного сырца. Кроме того, Куба поставляла в разные годы до 40% табачной продукции в США7. Британский путешественник Энтони Троллоп отмечал, что «торговля в стране (Кубе) всё уходит в руки иностранцев. Гавана вскоре должно быть станет такой же американской, как и Новый Орлеан». Американские капиталы были вложены в развитие промышленности Кубы, а также в железнодорожное строительство (провинции Гавана, Матанзас, Санта-Калра). Тип железнодорожной сети был типично колониальным: порты страны соединялись со столицей (главным портом). С другой стороны, для испанской короны Куба представлялась страной со слабым экономическим потенциалом: бюджет острова, утверждаемый ежегодно Мадридом, страдал хроническим дефицитом. Например, в 1894 году дефицит составил 28 152 000 песет8. Куба в Испанию экспортировала незначительную долю сахарного сырца, Испания же поставляла необходимое оборудования для обрабатывающей промышленности Кубы, а также оружие и боеприпасы. Словом, в течение XIX века, американо-кубинские экономические отношения развивались на квалитативном, и на квантитативном уровнях: Куба всё более ориентировалась на США, постепенно дистанцируясь от митрополии9.
Оценивая геополитическое значение Кубы как для Испании, так и для США, необходимо избежать аберрации дальности, то есть постараться принять во внимание не только значение Кубы в отношения США-Испании, но и в принципе во внешних политиках обоих государств.
В одном из своих писем министру Испании Хагу Нельсону 1823 года госсекретарь Джон Кинси Адамс описывал вероятность, с которой Соединённые штаты могли бы аннексировать Кубу уже к середине XIX века, таким образом: «если яблоко, созрев, отделилось от дерева, оно ничего не может выбрать, кроме того как упасть на землю. Куба, рвущаяся от собственной искусственно созданной связи с Испанией и подчиняющаяся законом гравитации может упасть только в США. "4
США пришлось долго ждать пока «плод созреет». В естественный процесс американское правительство пыталось добавлять пестициды собственного производства: в 1848 и в 1854 годах Испании предлагалось 100 и 130 млн. долларов соответственно за Кубу. Лот не уходил. Министр иностранных дел Педро Хосе Пи отвечал в лучших традициях драмы Островского «испанцы предпочтут видеть остров погрузившимся на дно океана, нежели переданным какой-либо державе». Уже в 1854 году был разработан «Остендский манифест», секретный план по присоединению острова, однако он, хоть и не был предлагаемым Извольским в Бухлау, всё же просочился в прессу, вызов «шок» среди европейских государств и недовольство рафинированных интеллигентов американского севера: дескать ужасные фермены-янки задумали найти себе близкий рынок невольничьей рабочей силы10 (транзакционные издержки малы, а автохтонное население в общем-то как и завезённые рабы работают исправно)11.
Десятилетие Гражданской войны на Кубе (1868-1878гг.) породило движение солидарности американцев кубинцам, скидывающим оковы колониальной зависимости и горячо стремящимся к демократии. Хоть и президент от демократической партии С.Кливленд был против вмешательства во внутренние дела Кубы, в Гавану хлынули толпы «американских добровольцев». Испания отправили на остров национальную гвардию. Конфликт не закончился громкими судебными разбирательствами: Испания просто навела порядок у себя на острове, и чуть было не отшвартовавшийся фрегат остался у причала в родной Гаване.
В основе экономических и социальных сдвигов, произошедших после окончания Десятилетней войны, лежала отмена рабства в 1896 году. Безусловно она придала большой импульс развитию капиталистических отношений на острове. К 1900 году в США из Кубы экспортировалось 99,86% сахара-сырца12.
Геополитическое значение Кубы для США и Испании.
Зачем же штатам Куба, каково её геополитическое значение?
Тут необходимо вспомнить ещё провозглашённую в 1823 году «доктрину Монро». Интересно, что именно двусторонние отношения США и Российской Империи сыграли в ней главную роль:
«По предложению Русского императорского правительства… посланнику Соединённых Штатов в Санкт-Петербурге даны все полномочия и инструкции касательно вступления в дружественные переговоры о взаимных правах и интересах двух держав на северо-западном побережье нашего континента… В ходе переговоров… и в договоренностях, которые могут быть достигнуты, было сочтено целесообразным воспользоваться случаем для утверждения в качестве принципа, касающегося прав и интересов Соединенных Штатов, того положения, что американские континенты, добившиеся свободы и независимости и оберегающие их, отныне не должны рассматриваться как объект будущей колонизации со стороны любых европейских держав13».
Смысл доктрины был донельзя прост: Америка — для американцев. Присутствие европейских государств в обоих Америках США не предполагали. Данная доктрина была чрезвычайно актуальна, так как в Латинской Америке развернулось мощнейшее освободительное движение, приведшее к образованию почти всех ныне существующих латиноамериканских государств.
Очевидно, что к 80-м годам XIX века, после обретения независимости всеми странами Латинской и Центральной Америки14, Куба, находящаяся под властью Испанской короны была сродни кантонам Ури, Швиц и Унтервальден, начиная с конца XII века так досаждавшим строящемуся паневропейскому королевству Габсбургов. Политическая элита США чётко осознавала, что без Кубы доктрину Монро невозможно полностью воплотить в жизнь, невозможно создать условия полной безопасности США от внешнего вторжения15. Без Кубы США не могли бы создать свой собственный проамериканский мирок, в котором можно периодически закрываться (вспомним позиции неоизоляционистов после Линдона Джонса), вольготно развиваясь экономически, пока Европа охвачена огнём.
Кроме стратегического значения Куба обладала и оперативным значением. Достаточно вспомнить, что в 1903 году США начали активно лоббировать свои интересы в строительстве Панамского канала и, в итоге, стали его единственным владельцем (с 1914 года до 1999 года). Безусловно, географическое положение Кубы с её развитой инфраструктурой, как гражданской, так и военной, определяла остров в качестве чекпойнта, который и в отличие от «Чарли», не открывшего горячую стадию войны Холодной, раскрутил маховик войн империалистических. Без Кубы строительство Панамского канала было бы равносильно тому, если бы Великобритания прорыла Суэцкий канал, не захватив бы ни Кипр, ни Аден. Это понимали правительства и Испании, и США ещё в середине XIX века, о чём свидетельствуют частые предложения США купить остров у Испании.
Геополитическая значение Кубы для Испании было таким же важным, как и для США. Очевидно, что свой последний оплот в Америке Испании рассматривала, в первую очередь, в качестве большого торгового порта, не менее большой военной базы и связующего звена между утерянной Латинской Америкой и Испанией. Тут всё просто.
Мы выявили то, что творилось в головах политиков, бумажниках промышленников. Словом, им довольно воздали дани, теперь потолкуем о том, что творилось в головах испанцев и американцев при упоминании Кубинского острова. Приблизимся к социально-политико-идеологическому аспекту.
Темой нижеследующих нескольких страниц является, не побоюсь этого слова, информационная война. Если геополитический и экономический аспекты в соперничестве США и Испании за Кубу являются объективными, и в определённое мере взаимообусловленными, то идеологический аспект -сугубо субъективен. Постараемся в этом разделе понять, как преподносили политические элиты обоих государств близящуюся войну, какой виделась Куба поданным Испании и гражданам США. Обратимся к газетным заголовкам и статьям второй половины XIX века.
Первая информационная война: желтение прессы.
Так сложилось, что ни президенты США, ни монархи Испании не предпочитали следовать в открытую концепции Realpolitic: главы государств не могли сказать прямо населению, что Куба нужна США в качестве жизненного пространства, или что Куба нужна Испании в качестве оного. Политики обоих государств придумывали различные идеологические напластования, уходя в глубокую либерально-идеологическую парадигму, мало кому приносящую когда-либо успех16.
В этом контексте интересно остановиться на том, как работала пропаганда в предвоенное время, то есть до 1898 года (про информационную войну в течение испано-американской войны мы поговорим ниже).
Начнём с жителей Кубы. «Понятно, что испанцы колоний, т. е. креолы, лишенные прав и крайне дурно и пристрастно управляемые стремятся отделить свое действительное отечество от угнетающей его метрополии»17. Такое положение вызывало рост недовольства среди населения и привело, как упоминалось выше, к восстанию 1848 года, а позже к десятилетней гражданской войне, спровоцированной низвержением Изабеллы II и провозглашением республики в Испании. Очевидно, что с ростом сепаристиских настроений военное присутствие Испании на Кубе увеличивалось, что ещё более осложняло сложившуюся ситуацию. Санхонский договор 1878 года между враждовавшими силами закрепил положения, по которому Куба получала представительство в Кортесах (14 сенаторов и 30 депутатов), невольники получали свободу, инсургенты — амнистию. Однако недовольство кубинцев только ширилось: Испанская корона, поражённая болезнью всех монархий, шла только на полумеры, хоть и сенаторов и депутатов Куба отправляла, но национальной, да и креольской администрации не имела, партию создавать не могла, равноправия не добилась.
В 1832 году Х.А. Сако стал главным редактором общественнополитического журнала «Revista Bimestre Cubana», объединившим вокруг себя круги либеральной интеллигенции. В то время значительную роль в формировании политического сознания кубинцев сыграл и Х.С. Де ла Лус-и-Кабальеро, познакомившегося во время своего путешествия по Европе и Америке с такими легендарными личностями как В.Скотт, Ж. Кювье, Ж. Мишле, И.В. Гёте, А. Гумбольдт. Вернувшись на Кубу, Х.С. Де ла Лус-и-Кабальеро показал себя рьяным сторонником ликбеза на Кубе, а также необходимость доминирования светского образования над религиозным.
С 1868 года ежемесячник Cubano Libre начинает будоражить умы сначала кубинских либералов, а затем и крестьян, обделённых землёй, и рабочих, не имевших права собственности на средства производства. Газета процветала в десятилетие гражданской войны, но потом её прикрыли, и найти её издания было так же сложно, как и найти книги Политковской. Однако процесс трансформации в сознании кубинцев остановить было уже нельзя18. Так, например, в еженедельной газете Guántanamo от 7 июля 1878 года в статья “La voz de guaso” («Глас бобыля») острой критике подвергается кубинская политика Альфонсо XII, упрекаемого в «попирании идеи Испанидад» и причисляемого к ярым противникам демократии, разжигающим национальную рознь. Альфонсо XII, вошедший в историю Испании как король-умиротворитель, в статья сравнивается с бобылём, крестьянином без земли, необразованным и неумелым пахарем. Газета El Atlantico в своём выпуске от 14 августа 1895 года остро критикует политику Антонио Кановаса дель Кастильо, определяя его чуть ли не врагом кубинского народа. Подобные идеи содержали все периодические кубинские издания XIX века: La Republica Cubana, La Nación, La Verdad, Revista Cubana, La masonería de La Voz de Cuba19. На мой взгляд, интересно, что Boletín Oficial (официальный ежемесячник) ни слова не говорит о ситуации складывающейся на Кубе. Однако издание печатает исправно программы политических сил на Кубе, в которые иногда затёсываются и антимонархические лозунги: “Qué las tropas se marchen!”, “Nesecitamos la libertad, que soló será posible sin el Rey”, “La tierra es para los campecionos, sino los burgesos”, “Sálvanos America”20. Говорить об исправно работающей цензуре на острове не приходится.
Резюмируя, отметим, что кубинцы были недовольны политикой Испании, посматривали на Запад в надежде получить помощь, начинали воспринимать себя отличным от испанцев этносом, что неизменно вело к необходимости самоопределиться21.
Что на счёт этого думали в США?
Уильям Рэндольф Хёрст, основатель «Hearst Corporation», медиамагнат, создатель «жёлтой прессы» сыграл главную роль в формировании американского отношения к кубинцам. Именно благодаря прокубинской, и соответственно, антииспанской газетной компании господин Хёрст сколотил своё огромнейшее состояние, а мир познакомился с новым видом войны, войны информационной22.
В постоянных заметках газет «Hearst Corporation», которых насчитывалось свыше 30 в США, встречались столь нами излюбленные фразы. Просто перечислим их — они не нуждаются в комментариях.
«Сотни беженцев, вынужденных спасаться от бедствий диктаторского режима Испанской администрации, еженедельно перебираются в Америку, прося убежища у властей»;
«Постоянные нарушение элементарных естественных прав на Кубе достигает предела. Будет ли взрыв?»;
«США призывает Испанию к открытию внешнеполитическоо диалога»; «Попытки США найти общую линию с Испанией не увенчались успехом. Помощь Кубе необходима уже сегодня»;
И моё любимое:
« США требуют провести референдум по вопросам независимости Кубы, наладить диалог с оппозиций и прекратить уничижающие действия по отношению к кубинцам со стороны Испании».
Уверен, что у читателя не возникают сомнений, что среди американцев царила истерия по поводу вопиющего безобразия творившегося на острове, подпитываемая даже кинематографом23. Естественно, не обходилось без демонстраций, одиночных пикетов и злобных комментариев в твиттере. К 1898 году американцы были готовы грудью закрывать амбразуру пулемёта, расстреливающего испанскую демократию.
Самый страшный гнев, как говорил Понтий Пилат, это гнев бессилия. Как раз он охватил испанцев.
Испанские медиахолдинги были менее изощрёнными. Кроме того, среди редакторов газет Испании не было единого мнения: были и либералы, кто сочувствовал кубинцам, и радикалы, взывающие к немедленному военному отражению агрессии, и монархисты, просто порицающие ''siempre fiel isla”, а также и изоляционисты, предлагающие следовать политике невмешательства. Но всё же, как свидетельствует Жилинский в своём отчёте, преобладали радикально-монархические настроения. Например, Patria в июля 1897 года критиковала политику США, называя её «явно подстрикательсвтующей и враждебной». Издание призывало испанцев дать отпор, чуть было не сказал американскому империализму (тогда ещё, правда, ни Каутский, ни Гобсон, ни Ленин этого термина не изобрели), американскому экспансионизму. Анализируя данную статью, можно увидеть то, что кроме как монархическим чувствам и братским вековым связям с Кубой газетам апеллировать было не к чему. Если газетчики США, располагающие фотоматериалами, информацией (интервью у жителей и «беженцев»), могли говорить про нарушения прав человека, эксплуатацию, народное недовольство, испанским СМИ не хватало информационных ресурсов, а придумывать из головы контраргументы, искажая факты, они пока не научились. Поэтому чаще всего действовали военными методами: с ростом общественного сознания происходило увлечение военного присутствия Испании на острове. 30-40-ые года вошли в историю Кубы как «Бесславное десятилетие», а в историю Испании как «эпоха аннексионизма»24.
Подводя итог, напишем, что среди испанцев слабовато пропагандировалась необходимость встать на защиту кубинцев от хищных лап американцев, объяснявшаяся тем, что короне это нужно. И всё (Дорогой читатель, запомни это фразу!).
На мой взгляд, рассмотрев Кубу с разных сторон: экономические связи Кубы, геополитическое положение, отношение испанцев и американцев к назревающим противоречиям, мы можем перейти дальше: посмотреть, как началась испано-американская война, какой отклик она нашла в мировом сообществе, как можно было бы охарактеризовать данную войну, к каким результатам она привела.
***
Началось всё донельзя просто. В 1895 году на Кубе разразилось массовое антииспанское восстание (товарищи Хосе Марти, Максимо Гомес и Антонео Масео явились в образах буревестниках революции, и подобно Стеньки Разину, на лодках высадились в провинции в Орьенте, чтобы совершить революцию). Хосе Марти и Максимо Гомес обратились к восставшим кубинским патриотам 25 марта 1895 года с «Манифестом Монекристи», содержавшим основную идеологическую доктрину национального освободительного движения: «Революционная борьба за независимость, начало которой было положено в Яре после долгих лет подготовки, стоящих народу немалых жертв, снова выступила на Кубе в стадию боевых действий по призыву Революционной партии, созданной на острове и среди эмиграции и сплотившей вокруг себя все слои народа, стремящиеся к освобождению страны на благо Америки и всего мира». Несмотря на мобилизацию 150 000 человек, Испания справиться с ними не смогла, и даже Валериано Мясник Вейлер-и-Николау одолеть кубинцев оказался неспособным. В США проявлялось стремление поддержать кубинских повстанцев. В 1895-97 годах состоялось свыше 60 экспедиций американских «добровольцев» для поддержки восстания, они, правда, с постаментов танк не заводили, но были не менее добровольными и секретными.
Уже 1 января 1898 года было сформировано первое временное автономное правительство Кубы во главе с Х.М. Гальвесом и тремя секретарями. На Кубе, по существу сложилось двоевластие: Испанская администрация и временное правительство существовали параллельно25. В январе 1898 года случилась незадача: письмо Энрике Дьюпи де Льома Альфонсу XIII, в котором он не в самых прелестных выражениях отзывался тогдашнем президенте США Уильяме Мак-Кинли, инкриминируя ему
«слабость в политике и нерешительность», попало в ручки Уильяма Рэндольфа Хёрста и тут же спамом разлетелось по всем штатам26. Содержание данного послания многие исследователи находят странным, казалось бы, испанский дипломат должен был быть в курсе секретной инструкции американскому послу в Испании Стюарту Л. Вудворду, определявшей новый ярко экспансионистский подход США к кубинскому вопросу, или о секретном совещании военного ведомства США, где Теодор Рузвельт предложил план захвата Кубы. Однако Энрике Дьюпи де Льом вместо предостережений отправлял в Испанию противоположные по содержанию письма, подстрекая её поскорее вступить в войну.
В добавление к этому неделей позже неожиданно пошёл ко дну броненосец «Мэн». Специально созданная для расследования комиссия, куда вошли только американцы, заключила что крейсер напоролся на мину или торпеду, на чью — неизвестно. Не было сомнений, что бухту в Гаване могли минировать только испанцы. Такая версия разнеслась в СМИ, американцы возненавидели испанцев, так вероломно поступивших с их мирным, обладающим 2 пушками 254-мм калибра и стреляющими 231килограммовыми снарядами броненосцем, который «просто проплывал мимо и фрахтовался для защиты американских добровольцев на острове».
К апрелю, казалось, ситуация стабилизируется, повстанцы пошли на диалог с законной властью, были достигнуты Гаванские договорённости о прекращении огня, об амнистии, начал разрабатываться проект автономизации Кубы. Но что характерно, в послании к Конгрессу США МакКинли предложил вмешаться в кубинские дела, утверждая, что «Испания не будет соблюдать договорённости»27. Хотя к тому времени уже существовал проект А.Маура, предполагавший предоставление Кубе и Пуэрто-Рико статуса автономий, а именно его и договорились адаптировать противоборствующие стороны28.
18 апреля 1898 года Конгресс решил, что Испании необходимо вывести войска из Кубы и признать её независимость, предоставляя президенту употребить Вооружённые Силы США29. Днём ранее временное правительство Кубы заявило, что готово принять помощь штатов в освободительной борьбе против Испании.
Испании был вынесен ультиматум в срок до 23 апреля выполнить требования. Первый раз в истории США объявила о морской блокаде Кубы, правда, в этот раз всё же не поставив мир на грань ядерной войны.
Такие события сразу же нашли своё отражение в прессе, ставшей к тому моменту уже совершенно жёлтой. В докладе Жилинского мы можем встретить такие строки: «чтение прессы испанской и американской совершенно вышло из нашего употребления. Всё покрылось ложными обвинениями и эмоциями»30. Чего стоит только воззвание “Remember the Maine”, печатавшийся на всём: марках, ящиках с военным продовольствием, театральных билетах. Газеты выходили порой полностью посвящёнными этой тематике, особенно газеты холдинга “Hearst Corporation”. В Испании страсти накалялись до предела, особенно старалась пропаганда: фраза «Отечество в опасности!» красовалась на каждом углу улицы крупного города31.
Политическая элита США заняла выжидательную позицию (так декларировалось в СМИ, на деле же США осуществляли полную блокаду острова, что по современным нормам международного права является актом агрессии32). Испания, к этому времени уже располагавшая военным контингентном на Кубе, составлявшим «40 генералов, 6.946 офицеров и 181.738 нижних чинов. Из этого числа отправленные на Кубу войсковые части, включая и 200 отдельных рот, представляли цифру в 140.586 нижних чинов. Остальные 41.152 нижних чина и около половины офицеров пересылались в разное время на пополнение убыли и на замену возвращенных в Испанию по болезни33». Кроме того, если прибавить регулярные войска, располагавшиеся на Кубе до восстания, то к 18 апреля 1898 году на острове находились.
22 апреля американский флотоводец Сэмпсон вышел со своей эскадрой34 из Ки-Уэста и объявил в полдень блокаду северо-западного берега Кубы. На переходе к Гаване эскадра захватила два испанских парохода с ценным грузом, ничего не подозревавших о начале войны. В тот момент обе воюющие стороны отказались от выдачи каперских свидетельств (корсарских свидетельств), хотя оба государства не подписали Парижской декларации 1856 года, запрещавшей каперство. Испанская суверенная территория (по праву экстерриториальности), в виде гражданских кораблей, была захвачены, Испании ничего не оставалось делать, кроме того как объявить войну США. Испания, предварительно разорвав дипломатические отношения, 23 апреля объявила войну США.
Ответная реакция США последовала только двумя днями позже. В декларации США Испании содержалась следующее предложение, заверенное Сенатом и Палатой Представителей, а также ниже президентом Мак-Кинли: «A bill declaring that war exists between the United States of America and the Kingdom of Spain». Стоит отметить, что эта декларация была написана нескольким необычным образом, по сути, США не объявляли войны Испании, а только констатировали факт её существования.
Со стороны США, учитывая регулярную армию и добровольческие формирования, участвовало до 300 тысяч солдат и офицеров.
С 30 апреля по 1 мая длилась чрезвычайно успешная для США операция по ликвидацию испанского флота в Маниле. Обезопасив себя с запада, войска США двинулись в Вест-Индию.
Первоначальный план операций США заключался в блокаде Гаваны и северного побережья Кубы с последующей бомбардировкой фортификационных сооружений и воспрепятствованием прохождению испанских судов35. Однако появление флотилии испанской короны под командованием П. Серверы не дало свершиться этому замыслу: США сосредоточили основной удар по Саньяго-де-Куба. Интересна история, приключившаяся с Паскуалем Серверой в 1892 году. Тогда Испания в лучших монархических традициях праздновала 400-летие открытия Америки. Празднества поражали размахом: точную модель Санты-Марии предполагалось отправить, да не в круиз по Волге с заездом в Нижний Новгород, Ярославль, Кострому, а в трансатлантическую экспедицию. Словом, решили смоделировать год 1492. Колумбом выбрали как раз адмирала Паскуаля Серверу. Говорят, профилем был похож. На Кубе же в 1898 году флагманский корабль под управлением адмирала носил имя «Христофор Колумб»36. Корабль пал в первом сражении, метафизически как бы намекая на то, что происходило с самой Испанской короной. Эта военная катастрофа стала сильнейшим психологическим фактором, подорвавшим боевой дух личного состава. В газетах Испании начали появляться такие архитипичные слова как «катастрофа», «трагедия», «безвозвратность», «упадок», «бессилие». Тон газетчиков, некогда настроенных радикально- монархически стремительно перерождался в декаденс.
Американским военным удалось выйти на прямой контакт с командующими повстанческой армии кубинских патриотов: М. Гомесом и К. Гарсией. 26 мая в Орьенте прибыла военная экспедиция из США с необходимы продовольствием, вооружением и прочим снаряжением. Гарсия известил американского главнокомандующего Нельсона А.Майлса о том, что переходит в его полное подчинение, передав ключевые разведывательные 37 сведения
Война кончается. Про кубинцев неожиданно забыли. 3 июля 1898 года эскадра П.Сервера потерпела сокрушительное поражение от эскадры США. «Макси были сброшены. Многие кубинцы поняли, что США использовали повстанческую армию для достижения военной победы над Испанией». «Многие кубинцы осознали циничность и беспринципность США, сняли пелену наивности и доверчивости»38. 17 июля Гарсия отправил гневное послание Шафтеру:
« Вы лично не оказали мне чести уведомить меня хотя бы единым словом о переговорах о мире или условиях капитуляции испанцев. . „ Но когда речь идет о назначении в Сантьяго-де-Куба властей... то я не могу иначе, как с чувством глубокого сожаления, констатировать, что эти власти избраны не кубинским народом, а назначены королевой Испании…
По слухам, слишком абсурдным, чтобы им можно было верить, генерал, причиной принятых Вами мер и приказов, запрещающих моей армии вступить в Сантьяго, являются опасения резни и актов мести против испанцев. Позвольте мне, сэр, заявить протест против самой мысли об этом. Мы не дикари, которым неведомы правила цивилизованного ведения войны. Наши солдаты бедны и оборваны, как и ваши предки в их благородной войне за независимость…»39.
Уже 12 августа 1898 года, после непродолжительной трёхмесячной агонии испанской армии, при посредничестве Франции были подписаны прелиминарные условия мира между Испанией и США.
Испания была вынуждена отказаться от своих прав на Кубу, Пуэрто-Рико и другие принадлежавшие ей Антильские острова. Интересен уровень конкретизации данного протокола, пусть и прелиминарного: в нём ни слова не говорится о кубинцах, о их независимости, также не уточняется какой режим установится на перечисленных выше территориях. Стоит упомянуть, что такие протоколы США будет заключать ни раз — достаточно вспомнить договор 1951 года в Сан-Франциско по японскому вопросу.
Пожалуй, М. Гомес ярко описал произошедшее: «Подписан мир, это правда. Но вызывает чувство печали тот факт, что люди Севера столь долго безразлично созерцали, как убивали народ, людей честных, достойных, героических. Наконец-то Куба свободна. И только история рассудит всех»40.
На Кубе произошли следующие политические перестановки: автономное правительство Кубы было распущено по настоянию США, ровным счётом, как и Кубинская революционная партия; словом, об истинной свободе и суверенитете кубинцам пришлось снова забыть. У Кубы даже не спросили, согласна ли она на перемирие, как и не спросят через 64 года. После кампании 1898 года остров перестал быть субъектом международного права, превратившись в объект колониального дележа.
Испано-американская война, продлившись 115 дней, ознаменовалась «блестящей победой» США за счёт кубинских патриотов и завершилась 10 декабря 1898 года подписанием Парижского мирного договора41. Документ содержал 17 статей и был заверен восемью подписями американский и испанских представителей.
Наиболее существенными в договоре были стати, закрепившие территориальные изменения:
Во-первых, Испания отказывалась от своих прав на Кубу. Тут стоит отметить, что американцы избежали размытости трактовки, которую допустили британцы в Утрехте в 1713 году, не прописав, что Испания отказывается и от суверенитета над Гибралтаром. В договоре чётко прописано, что Испания отказывается от всех прав на остров, её суверенитет на данную территорию не распространяется, Куба переходит под контроль и защиту США до утверждения на острове демократического режима.
Во-вторых, Испания передаёт США Пуэрто-Рико, остров Гуам, а также мелкие некоторые мелкие острова в Вест-Индии. В этом положении использовалась та же калька, регламентирующая переход Кубы, но не уточнялось, что данные территории переходят под контроль и защиту США до утверждения на них демократического режима, они просто переходили.
В-третьих, Испании обязуется согласиться на уступку Филиппин США за двадцать миллионов долларов.
Безусловно, заполучив такие удобные военные базы в виде протекторатов США перешла на новый геополитический уровень, заявив о себе на международной арене. Ни Англии, ни Франции, ни России, ни Германии, ни Австро-Венгрии произошедшее понравиться не могло42. Старые и новоиспечённые колониальные державы не хотели конкуренции, а потому выступили посредниками в переговорах США и Испании, а также показали в себя в роли обличителей американской политики «аннексизма».
***
Казалось бы, войны, относимая к числу «забытых» и одновременно именуемая «идеальной», не может содержать в своём характере два таких противоречивых начала: если про войну забыли, значит она была безуспешной (например, Корейская 1950—1953), и наоборот, если окончилась блестящей победой, все о ней помнят (и тут даже дело не в общемировом масштабе. Вспомним, например, датско-прусскую войну 1864 года).
Может тут всё-таки дело в том, что кто-то специально заретушировал границы происходящего, дабы что-то ускользнула от внимания глаза пытливого исследователя?
На удивление, после войны испано-американской наступила целая вереница коротких, захватнических войн, спровоцированных народными восстаниями: англо-бурская война (1899-1902 гг.), завоевание Францией Чада (1899-1901 гг.), война Золотого Трона (1900 г.), англо-аро война (1901-1902 гг.), русско-японская война (1904-1905 гг.), голландское вторжение на Бали (1906 г.). Или не на удивление?
Гобсон в своём сочинении об империализме выделяет эпоху 1884–1900 гг., как эпоху усиленной «экспансии», Каутский называет её «империализмом». Если первый видел в этом феномене и положительные, и отрицательные стороны, то второй исключительно положительные черты, грезя об ультримеприализме, граничащим с тотальным пацифизмом. За это и критикует товарищей Гобсона (с уважением) и Каутского (без уважения) Владимир Ильич Ленин43: «Бессодержательнейшие разговоры Каутского об ультраимпериализме поощряют, между прочим, ту глубоко ошибочную и льющую воду на мельницу апологетов империализма мысль, будто господство финансового капитала ослабляет неравномерности и противоречия внутри всемирного хозяйства, тогда как на деле оно усиливает их44» «Кроме сочинения нового премудрого словечка, посредством замены одной латинской частички другою, прогресс «научной» мысли у Каутского состоит только в претензии выдавать за марксизм то, что Гобсон описывает, в сущности, как лицемерие английских попиков45».
Не вдаваясь в описание сущности споров трёх мыслителей, их критики критик, выделим характеристики империалистических войн, которые упоминают все три мыслителя. Во-первых, империалистические войны начинаются тогда, когда мир уже поделён Великими державами: на политической карте не остаётся «ничейной земли». Во-вторых, войны за передел поделённого мира вспыхивают в районах массового недовольства местных жителей прежней администрацией (порою, правда, восстания получают поддержку извне). В-третьих, империалистические войны происходят за территории, куда предварительно проникает капитал нового владельца ими, приводя к абсурдной ситуации, когда и военные, и промышленники выступают за вооружённое вмешательство. Парадоксальность этой ситуации заключается в том, что обычно имущие слои, ведущие бизнес в своих регионах, не приветствуют какую-либо смену политического режима, потенциально ухудшающую их дела. В-четвёртых, захватчики часто играют на чувствах национальной идентичности автохтонного населения, подогревая их ненависть к старым колониальным державам46.
Я не хочу скатываться в пустословие, вновь возвращаясь к описанию испано-американской войны 1898 года. Ограничусь упоминанием следующих выводов, к которым мы пришли прежде. Принимая во внимание то, что кубинцев США обманули, не предоставив независимость, ненависть кубинцев к испанцам, а также предрасположенность американцев к кубинцам стали продуктами слаженной работы медиахолдингов США, США спровоцировали войну за Кубу, представляющую большой экономический интерес и обладающую геополитическим значением, а Испания, будучи старой колониальной державой, не смогла оказать сопротивление натиску США, мы сделаем вывод, что испано-американская война была империалистической.
Анализ хронологической последовательности подобных войн добавит ещё одну характеристику этой войне: испано-американская война была первой империалистической войной.
Заключение.
К чему же мы пришли, анализируя ход испано-американского противоборства в Вест-Индии в XIX веке?
Во-первых, испано-американское противоборство носило не только экономический и геополитический подтекст, но и явилось большим психологическим, ментальным противостоянием. Тогда боролись две системы: система старая колониальная, иррациональная, патерналистская, чуждая сциентизму, да и всякой модернизации, и система буржуазная, новоколониальная, чувствующая себя обнесённой колониальным пирогом, и не агонизирующая в монархическом этатизме.
Рассматривая экономику, мы видим этот психологический диссонанс транспарентным, рассматривая через призму геополитики, -трансцендентальным, исследуя же с точки зрения социологии, -поддающимся объяснению. Длящийся более 50 лет конфликт за Кубу, остававшейся последним жемчугом в короне Империи, не мог не привлекать внимания испанцев и война за него, по мнению этой же короны, приобретала сакральный смысл. Зеркальный процесс происходил в США, где Кубы являлась недостающей звездой на флаге. Словом, для обоих государств данная война оказалась решающим, последним, финальным рывком, определившим, кто из них встанет на рельсы империализма, войдёт в плеяду Великих держав-решителей судеб мира, а кто окажется за бортом колониального дележа, проплывая в фарватере международной политики. В 1898 году «страшный суд свершился: США вышли из него победителями, определив себя Великой державы, правда позже их сознание помутнеет в неоизоляционизм, но это станет «лисьим ходом» (оставим этот сюжет для будущих исследований), Испания же низложится до статуса мелкого регионального государства с империалистическим прошлым. Такое происшествие отразилось в ментальности и американцев, и испанцев. СМИ и государственная власть долго держали и тех, и других в перманентном напряжении, натягивая нервные струны с каждым годом на тон выше, и когда рука музыкального провидения ударила по обеим гитарам, струны испанского Fender с резким, лязгающим звуком лопнули, строй же американского Gibson оказался идеальным. Американцы устремили свой взор далеко за горизонт. Испанцы же стали смотреть под ноги. Так родились два поколения 1898 года. Успешное американское (представителями поколения 1898 года США являются Генерал Дуглас Макартрур, Франклин Делано Рузвельт, Джон Мейнард Кейнс, Джо Кеннеди-старший, Дуайт Эйзенхауэр) и склонное к фатализму испанское.
Кроме того, мы пришли к ещё одному любопытному выводу: испаноамериканская война стала первой среди последующих империалистических войн, в которых найдётся места и поколению отчаявшихся после 1905 года русских-либералов, озлобленных после 1902 года немецких радикалов, самоуверенных британцев и французов после 1904 года. Все перечисленные войны регионального масштаба (хоть и порой они велись в нескольких океанах, или на нескольких континентах) привели к глобальному выплеску накопившихся противоречий к году 1914, к году роковому для всех Великих держав.
Подводя итог, мне бы хотелось сказать, что политика США смимикрировала в 1898 году, вкусив кубинский плод. Этот год стал поворотным в сфере геополитики, продемонстрировав миру новый вид борьбы: борьбы психологической, информационной. Первыми её жертвами стали кубинцы, верные данным обещаниям, полагающиеся в бескорыстную помощь. Может быть отсюда и берёт свои корни нынешний политический феномен Кубы. Будучи обманутыми, прожив под протекторатом американцев более 50 лет, кубинцы принимают режим, который был создан ими собственноручно и в ожесточённом сопротивлении довлеющим над ними силам. Вера в справедливость собственного режима несёт цементирующую политический режим психологическую функцию. Испания после 1898 года не станет принимать в международных отношениях сколь видимое участие, став объектом внешней политики других государств: объектом за борьбу сочувствующих то Антанте, то антигитлеровской коалиции, а позже объектом порицания за профашистский режим и падения бомб под Паломаресом.
Смотря на международную обстановку в настоящем времени, мы можем заключить, что и по ныне США играют ведущую роль, проводя ту же экспансионистскую политику, с лихвой приправленную патетикой прессы. Испания остаётся на задворках Европы, хоть и декларируя идеи Испанидад.
Я очень надеюсь, что в своей работе мне исподволь удалось показать ещё кое-что. Оценивая международную обстановку, обстановку во многом критическую для России, мы должны всегда обращать внимание не только на прессу противостоящих государств (государств нейтральных в наше время уже, увы, нет. Это, кстати, является большой проблемой для социального конструктивизма в теории международных отношений), но и отряхиваться от отечественной идеологической пыльцы, всё чаще призывающей защитить национальные интересы. И всё.
Спасибо!
Используемая литература
Список литературы Роль испано-американской войны в трансформации менталитета испанцев
- Отчет командированного по Высочайшему повелению к испанским войскам на остров Куба полковника Генерального штаба Жилинского. 1899 г
- Boletín Oficial de la Provincia de Pinar del Río
- Кубинская публицистика XIX века: http://bibliotecadigitalcubana.blogspot.ru/p/blog.html
- Escalante Beaton A. Op. Cit
- Gómez M. Op, cit.
- Harrington, Peter, and Frederic A. Sharf. "A Splendid Little War." The Spanish-American War, 1898. The Artists' Perspective.
- Guillermo G. Calleja, «La voladura del Maine».
- История внешней политики Испании. Н.Е. Аникеева, В.А. Ведюшкин, О.В. Волосюк, И.Ю. Медников, С.П. Пожарская.
- WORLD POLICY JOURNAL (SPRING 2005 ) // «The American Empire? Not So Fast» by Arthur Schlesinger
- История Испании, том 2, «От войны за испанское наследство до начала XXI века».
- Hugh Thomas. Cuba: The pursuit for freedom.
- Moreno Fraginals M. El Ingenio: Complejo ecónomico social cubano del azucar. T. 1-3. La Habana, 1978. T.3.
- Cule, Nicholas J., Culbert, David., Welch, David. Propaganda and Mass Persuasion: A Historical Encyclopedia, 1500 to the Present.
- Политическая история стран Латинской Америки в XIX веке/ отв. Ред. Е.А. Ларин.
- Альфред Штенцель «Испано-Американская война 1898 года»
- Trask, David F. The War with Spain in 1898, N.Y.: Macmillan, 1981.
- Фонер Ф.С. Испано-кубино-американская война и рождение американского империализма.