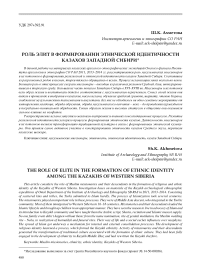Роль элит в формировании этнической идентичности казахов Западной Сибири
Автор: Ахметова Ш.К.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья
Статья в выпуске: XXI, 2015 года.
Бесплатный доступ
В данной работе на материалах казахских археолого-этнографических экспедиций Омского филиала Института археологии и этнографии СО РАН 2011, 2013-2014 гг. рассматривается роль мусульманских миссионеров и их потомков в формировании религиозной и этнической идентичности казахов Западной Сибири. Состоявшие из разрозненных родов и племен, тюрки тяжело обращались в ислам. Процесс исламизации занял несколько веков. Большую роль в этих процессах сыграли миссионеры - выходцы из различных регионов Средней Азии, интегрировавшиеся в тюркскую среду. Большая их часть попала в Западную Сибирь в XVI-XVIII вв. Миссионеры и их потомки вели образ жизни и воспитывали детей в соответствии с мусульманским вероучением. Смысл своей жизни они видели в пропаганде и внедрении в казахские массы ислама, обучая их арабской грамоте, шариату, чтению Корана, снабжая их мусульманскими талисманами и амулетами. Без них не обходилось ни одно семейное мероприятие от имянаречения младенца, обряда обрезания, обряда мусульманского венчания - неке - до проведения курмалдыков и погребально-поминальной обрядности. Своим образом жизни и высоким статусом в обществе они оказывали сильное влияние на неофитов. Распространение ислама запустило механизм внутренних и внешних консолидационных процессов. Развитие религиозной идентичности ускорило процессы формирования этничности казахов. Деятельность миссионеров и их потомков вызвала трансформацию традиционной культуры в связи с формированием этнической культуры. Они приняли самое активное участие в конструировании этничности казахов Среднего жуза, переписав казахские шежире.
Мусульманские миссионеры, этничность, этническая идентичность, казахи западной сибири
Короткий адрес: https://sciup.org/14522280
IDR: 14522280 | УДК: 297+392.91
Текст научной статьи Роль элит в формировании этнической идентичности казахов Западной Сибири
В период ранней исламизации тюрки состояли из разрозненных родов и племен. Родоплеменная структура была разобщающим фактором как между чуждыми, так и родственными племенами, в которых доминировала традиционная культура. Общины такого типа могли занимать значительные ареалы, но, в любом случае, они были локальными, замкнутыми сами на себя. Выход индивида или какой-либо группы за пределы замкнутого коллектива людей, живущих в рамках традиционно-культурного социума, означал начало «размывания» традиционной культуры [Селезнев, 2004б]. Распространение ислама запустило механизм внутренних и внешних консолидационных процессов. В результате контактов и взаимодействия носителей разных видов традиционной культуры возникла основа этнического самосознания. Но в формировании этничности важная роль принадлежит людям, сконструировавшим представления об этничности и этнической культуре. Процесс конструирования этнической культуры занимает продолжительный период времени, в течение которого господствующее положение занимает традиционная культура, и завершается, как правило, мощным социальным катаклизмом. Только тогда этническая идентичность и этническая культура выступают в оформленном и завершенном виде [Селезнев, 2004а]. Большую роль в этих процессах сыграли миссионеры – выходцы из Средней Азии, интегрировавшиеся в тюркскую среду. Их миссии в формировании этнической идентичности казахов Западной Сибири посвящена данная работа, в которой использованы материалы казахских археолого-этнографических экспедиций Омского филиала Института археологии и этнографии СО РАН 2011, 2013–2014 гг.
История прихода первых миссионеров начинается с конца XIV в., когда Тимур, преследуя Ток-тамыша, вторгся во внутренние пределы Сибири. На обратном пути он отправил для распространения веры и искоренения шаманства миссионеров. Возможно, это была первая волна, когда в ислам была обращена какая-то часть предков современных казахов и татар.
Следующий поток миссионеров был связан с формированием улуса кочевых узбеков во главе с провозглашенным ханом Абу-л-Хайром и с центром в Чимги-Туре (Тюмени) в 1428–1429 гг. [Селезнев, Селезнева, Белич, 2009, c. 28]. Среди тех, кто присутствовал на церемонии провозглашения Абу-л-Хайра ханом, упоминаются высокопоставленные лица из таких родоплеменных образований, вошедших позднее в Средний жуз, как найман, конрат, курлаут, таймас [Материалы…, 1969, с. 144]. Родовые подразделения кыпчаков курлеут и таймас в настоящее время проживают в Нововар- шавском, Черлакском и Русско-Полянском р-нах Омской обл.
Интенсивное развитие ислама в Западной Сибири связано с бухарцами. Под этим этнонимом подразумеваются выходцы из различных регионов Средней Азии: сарты, узбеки, таджики, уйгуры. В Западную Сибирь они переселились преимущественно в XVI–XVIII вв. и не только с религиозной целью [Томилов, 1992, с. 122–124]. В отличие от местного населения они были более образованны . Бухарцы были единственными носителями мусульманской книжной культуры в Западной Сибири в XVI–XVII вв. [Селезнев, Селезнева, Белич, 2009, c. 50–51]. В Сибири ХVII–ХVIII вв. они относились к особому торгово-землевладельческому сословию, наделенному большими правами и привилегиями [Бустанов, Корусенко, 2010, с. 98; 2014, с. 139; Корусенко, 2011, с. 20–24; Селезнев, Селезнева, Белич, 2009, c. 50; Frank, 2012, pp. 45–50]. Своим образом жизни и высоким статусом в обществе они оказывали сильное влияние на неофитов.
Обращенные в ислам, руководители казахских родоплеменных объединений привозили их специально для обучения мусульманским правилам и чтению Корана. В одном из айтысов (песенное состязание) приводятся исторические данные, относящиеся к начальным этапам исламизации казахов. Состязание между двумя известными акынами Жолдыбаем из рода керей и Баймагамбетом из рода кожа Омского уезда Акмолинской обл. состоялось в 1914 г. В айтысе говорится о том, что предки кожа Баймагамбета ведут род от сарта Ашми Кы-зата из Коканда. Он напомнил, что 400 лет назад сыновья братьев-близнецов Есеналы и Есбола привезли его предков из далекого Туркестана. При этом упоминаются Кудайберды с Кудасом как сыновья Есеналы, а Бурас и Курман как сыновья Есбола [Ка-бульдинов, 2001, с. 160–161]. Кереи, проживающие и поныне в Таврическом и Одесском р-нах Омской обл. и Валихановском р-не Северо-Казахстанской обл. Республики Казахстан, относятся к родовым подразделениям кудайберды, кудас, бурас, курман. В их шежере Есеналы и Есбол значатся как предки, от которых они ведут свой род.
Позиции ислама укрепились среди тюркского населения Западной Сибири лишь в XVII–XIX вв. Родоплеменная структура многих мусульманских народов России определила отношение русской власти к исламу. Вера в единого бога не только способствовала консолидации внутри этноса, но и сближала с другими народами мусульманского мира. Российские власти относились настороженно к миссионерам из Средней Азии. С целью ограничения фанатизма со стороны влиятельных духовных центров Бухары, Хорезма и Коканда власть поддержала менее радикальный адатный ислам [Ярков, 2014, с. 134].
Тем не менее, влияние со стороны среднеазиатских духовных центров продолжалось. Согласно нашим полевым материалам, наибольшей популярностью пользовалось медресе в Бухаре, где традиционно проходили обучение на имамов казахские и татарские служители культа вплоть до Октябрьской революции и позднее. Оттуда они привозили с собой много богословской литературы. В казахском роде курман кереев был широко известен Ахмет Жусупов, обучавшийся в Бухарском медресе в конце XIX – начале XX в. Он прославился своими красноречивыми проповедями и оккультными познаниями. По словам родственников, у него был большой сундук с книгами, привезенными из Бухары. После его смерти в 1955 г. книги были розданы муллам и старикам, исполняющим намаз.
Предки рода қожа из аула Қасқат Исилькуль-ского р-на Омской обл. прибыли из Туркестана на территорию Северного Казахстана в XVIII в. в поисках лучшей жизни. Здесь они открыли мечети и мектебы (школы), обучая местное казахское население тюркскому письму на арабской графике и Корану. Затем перевезли из Туркестана своих родственников. Кочуя с казахскими родами, они дошли до своего нынешнего места проживания в Омской обл. [Ахметова, 2013, с. 13]. Тастембек қожа делал не только обрезания, но и лечил душевно больных людей, детские болезни и женское бесплодие. Ежедневно ранним утром он поднимался на крышу своего дома с Кораном в руках и читал азан. Двоюродные братья Мажит қожа и Тастембек қожа отчитывали больных по Корану. Предки их деда Азамата вели свое происхождение от солдата, попавшего с арабским войском в VIII в. в Туркестан. В семье сына Мажита хранится Коран, оставшийся от дальних предков. В годы советской власти жители аула Қасқат и прилегающих селений скрывали своих мулл из рода қожа, не выдавали их репрессивным органам. Принадлежавшие им книги Корана закапывали в определенных местах в ауле Мукаш, где детям не разрешали играть.
Конструируя этничность казахов Среднего жуза, қожа переписали казахские шежире, в которых появились имена мифических предков казахов с тюркскими именами и мусульманскими приставками. Одну из таких шежере мы записали в Баян-Аульском р-не Павлодарской обл. в 2003 г. Согласно ему, от родоначальника Среднего жуза Қотанбая родились шесть қожа: Дайыр қожа, Қара қожа, Ақтан қожа, Қосым қожа, Қосман қожа и Смагул қожа. От Дайыр қожа родился Қонрат, 482
от Қара қожа – Арғын, от Ақтан қожа – Қыпшак, от Қосым қожа – Найман, от Қосман қожа – Уак и от Смагул қожа – Керей. Об этом свидетельствует и генеалогия аргынов. От первой жены Арғына родился Мейрам-сопы, от которого получили распространение «бес Мейрам». От второй жены родились 7 сопы: Ақ-сопы, Қара-сопы, Сары-сопы, Надір-сопы, Арық-сопы, Орақ-сопы, Дара-сопы [Ахметова, 2004, с. 96–97].
В советские времена мусульмане Западной Сибири продолжали поддерживать в своей этнической среде религиозные традиции. Большую роль в этом сыграли миссионеры и их потомки, составившие неформальную элиту общества. Их деятельность способствовала формированию этнической идентичности казахов.
Список литературы Роль элит в формировании этнической идентичности казахов Западной Сибири
- Ахметова Ш.К. Аргыны: опыт этнологического исследования//Олкетану. -Павлодар: Науч.-изд. центр Павлодар. гос. ун-та им. С. Торайгырова, 2004. -№ 3. -С. 95-101.
- Ахметова Ш.К. Кожа в этнической истории казахов Западной Сибири//Казанская наука. -2013. -№ 4. -С. 12-14.
- Бустанов А.К., Корусенко С.Н. Родословные сибирских бухарцев: Имьяминовы//Археология, этнография и антропология Евразии. -2010. -№ 2 (42). -С. 97-105.
- Бустанов А.К., Корусенко С.Н. Родословные сибирских бухарцев: Имьяминовы//Археология, этнография и антропология Евразии. -2014. -№ 4 (60). -С. 134-145.
- Кабульдинов З.Е. Фольклор казахов Западной Сибири как исторический источник//Исторический ежегодник. Спец. вып., посвящ. 60-летию проф. Н.А. Томилова. -Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2001. -С. 158-163.
- Корусенко С.Н. Сибирские бухарцы в начале XVIII в. -Омск: Изд. дом «Наука», 2011. -248 с.
- Материалы по истории казахских ханств XV-XVIII веков (извлечения из персидских и тюркских сочинений). -Алма-Ата: Наука КазССР, 1969. -651 с.
- Селезнев А.Г. Культурология традиционных сообществ: к выделению научной субдисциплины//Культурологические исследования в Сибири. -2004а. -№ 1 (12). -С. 123-134.
- Селезнев А.Г. Традиционная культура: к характеристике объектной сферы исследования//Перекресток культур: Междисциплинарные исследования в области гуманитарных наук. -М., 2004б. -С. 287-302.
- Селезнев А.Г., Селезнева И.А., Белич И.В. Культ святых в сибирском исламе: специфика универсального. -М.: Изд. дом Марджани, 2009. -216 с.
- Томилов Н.А. Этническая история тюркоязычного населения Западно-Сибирской равнины конца XVI -начала XX в. -Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. ун-та, 1992. -С. 122-124.
- Ярков А.П. Ислам в жизни тюркского населения Западной Сибири и Северного Казахстана в XVII-XIX вв.//История, экономика и культура средневековых тюрко-татарских государств Западной Сибири: мат-лы II Все-рос. науч. конф. -Курган: Изд-во Курган. гос. ун-та, 2014. -С. 132-136
- Frank A.J. Bukhara and the Muslims of Russia: Sufism, Education, and the Paradox of Islamic Prestige. -Leiden, Boston: Brill, 2012. -215 p